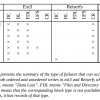Понятие нормы – это одно из фундаментальных понятий в психологии. Любая коррекционная работа начинается с того, что мы решаем, что является нарушением (которое можно устранить или, во всяком случае, скомпенсировать), а что – конструктивной особенностью отдельно взятого индивидуума. Многие люди на том или ином этапе своей жизни задаются вопросом о психологической норме. Нормален ли я? Нормален ли мой ребенок? Нормально ли то, что делает мой партнер? Сегодня, соответственно, мы попытаемся разобраться, что означает слово «нормально» применительно к душевной жизни.
Начать здесь нужно с того, что у этого слова может быть несколько разных значений. Одни и те же феномены могут быть «нормальными» с одной точки зрения и «ненормальными» – с другой.
Во-первых, мы можем понимать норму статистически. Многие психологические и психофизиологические характеристики вариабельны в широком диапазоне, и разброс их значений можно описать через нормальное распределение. Если мы будем исследовать какой-то вариант интеллекта (например, измеряя способность решать типовые задачи из тестов Айзенка), то мы увидим небольшое количество исключительно эффективных испытуемых, небольшое количество исключительно неэффективных и много промежуточных, средних результатов. Эти средние результаты мы можем считать нормативными, а краевые результаты, соответственно, интерпретировать как одаренность или, наоборот, интеллектуальный дефицит. Но тут сразу возникает резонный вопрос: если «колокольчик» нормального распределения имеет плавную форму, то что дает нам основание для выделения в нем качественно различных областей? На каком основании мы считаем то или иное значение характеристики пороговым, задающим границы нормы? Ответ неутешителен: у нас нет этого основания. Выделение нормативной области является вопросом договоренности, и решение о границах нормы здесь принимается не на основании качественных различий, а скорее на основании психологического здравого смысла. Если из наблюдений мы знаем, что при некоторых достаточно низких значениях параметра человеку становится затруднительно функционировать (например, он не может усваивать школьную программу), то это позволяет нам сказать, что такие значения ненормативны. С другой стороны, мы можем подойти к этому вопросу формально, приняв за отклоняющиеся, например, верхние пять процентов результатов и нижние пять процентов результатов. Что мы можем сказать о человеке, который попадает в эти краевые зоны? Только то, что он точно отличается по некоторому отдельному параметру от большей части популяции. Мы не знаем, мешает это ему или нет. Мы не знаем, создает ли это проблемы для окружающих. Мы знаем только то, что он необычен.
Второй вариант – мы можем понимать норму функционально. В этом случае мы как раз начинаем с того, что задаем вопросы прагматического плана. Удобно ли жить с такой особенностью, безопасно ли это, не мешает ли это в каких-то важных аспектах жизни, не ухудшает ли это качество жизни? Например, Зигмунд Фрейд определил в свое время психическую норму как способность любить и работать. Что это означает? Это означает, что психически «нормальный» человек может поддерживать целенаправленную продуктивную деятельность в течение продолжительных отрезков времени, и он может выстраивать устойчивые близкие отношения, которые не становятся мучительными и разрушительными. Это удобный критерий, потому что его легко отслеживать. Если человек не удерживается ни на одном рабочем месте больше нескольких месяцев, мы понимаем, что какая-то проблема мешает ему функционировать. Если все его отношения распадаются в течение нескольких месяцев (или вообще не могут возникнуть), мы тоже можем понять, что есть какая-то проблема. С другой стороны, можно говорить о том, что у этого конкретного человека существенно более узкий диапазон условий, в которых он может хорошо функционировать, и в определенным образом организованной среде он может быть вполне устойчив, конструктивен и продуктивен, сохраняя все те же самые свои особенности. Например, глубокий интроверт имеет очень небольшую потребность в общении, и его отношения могут планомерно распадаться из-за того, что его партнеры систематически чувствуют себя обделенными вниманием. Значит ли это, что интроверт вообще плохо функционирует? Нет, это значит только то, что он не может поддерживать продолжительные близкие отношения с людьми, которым нужно много общения и много эмоциональной обратной связи. Однако вполне возможно, что у него могут быть очень устойчивые и комфортные отношения с другим глубоким интровертом. Аналогичным образом, определенный тип людей органически не способен приходить на работу вовремя, но очень хорошо функционирует в режиме свободного графика. Это ситуация, когда человеку вообще-то нравится работать, но у него свой специфический цикл активности. Например, он совсем непродуктивен рано утром и очень продуктивен в три часа ночи. Мы не можем сказать, что этот человек в принципе является негодным сотрудником; мы можем сказать только то, что он хорош на той работе, которую можно делать в три часа ночи, и не очень хорош на той работе, которую обязательно надо начинать делать в восемь утра.
Соответственно, третий смысл, который мы можем вкладывать в понятие нормы, связан со спектром типологических вариантов. Зеленоглазых людей, допустим, в популяции может быть не очень много, но мы не считаем зеленоглазость проблемой, а считаем ее просто одним из возможных вариантов пигментации радужной оболочки. Применительно к циклам активности мы можем выделять типы «жаворонков» и «сов», считая их просто индивидуальными вариантами. С этой точки зрения потребность работать именно в три часа ночи – это просто особенность определенного типа людей. Например, на некотором этапе гомосексуальность была извлечена из перечня сексуальных нарушений и начала считаться типологическим вариантом. Логика за этим стоит следующая: в популяции спонтанно возникает определенный процент гомосексуальных индивидуумов, попытки искусственно изменить их ориентацию оказываются вполне бесплодными, их ориентация не мешает им работать, поддерживать отношения и быть счастливыми – значит, видимо, это надо рассматривать как индивидуальную особенность. С точки зрения воспроизводства населения эта особенность, как мы понимаем, создает определенные сложности, но, во-первых, не то что бы человечество находилось на грани вымирания, а во-вторых, репродуктивные технологии шагнули достаточно далеко, чтобы появление потомства вообще перестало как-либо зависеть от сексуальной активности родителей. Если исходить из того, что конечная цель прикладной психологии в избавлении людей от душевных страданий, то, скажем, нормализация вариантов сексуального поведения в массовом сознании приносит больше пользы, чем попытки терапевтировать то, что изначально ничему и не мешало, потому что таким образом мы уменьшаем количество страданий, связанных со стигматизацией. Сама по себе ориентация страданий не причиняет, зато их причиняет необходимость скрываться, лгать о своих отношениях, переживание своей неправильности (патологичности, греховности), оскорбительные и оценочные реплики окружающих и т.д.
Четвертый смысл, соответственно, связан с границами социально приемлемого в конкретной культуре. В разных сообществах одни и те же вещи могут считаться нормальными, а могут вызывать бурное неприятие. Например, в нашей культуре нормализованы некоторые химические зависимости: зависимость от никотина и легкая степень зависимости от алкоголя. Известно, что эти виды зависимости имеют определенные негативные последствия для здоровья (причем как самого зависимого человека, так и окружающих его людей), но на уровне сообщества существует договоренность, что это приемлемое поведение, которое не является существенной и серьезной проблемой. Когда мы говорим о нормальном в смысле социальной приемлемости, мы имеем в виду, что у человека с определенными особенностями, вероятно, не возникнет проблем во взаимодействии с социумом, связанных с негативной реакцией на эти особенности. Такая нормальность, естественно, будет относительной характеристикой, зависящей от конкретного сообщества и его внутренних границ приемлемости. Применение физического и эмоционального насилия к детям, например, в одних культурах нормализовано, а в других считается недопустимым. Это не значит, что в одних культурах оно имеет меньше негативных последствий, чем в других. Это значит только то, что где-то это принято считать проблемой, а где-то не принято – в зависимости от того, насколько вообще на уровне сообщества чувства человека осознаются как ценность. Сообщество, которое стремится к эмоциональному благополучию своих членов, будет иметь другие границы приемлемости, чем сообщество, для которого остро стоит вопрос выживания и оно не имеет достаточно ресурса для того, чтобы заботиться еще и о тонких материях.
Клиент не всегда прав
Возможна ситуация, когда сообщество – например, исходя из культурного понимания нормы – говорит индивиду: «Знаешь, парень, ты больной, и тебе надо лечиться», – а индивид, опираясь на функциональное понимание нормы, отвечает на это: «Отстаньте, у меня все в порядке». Во многих случаях, если индивиду его особенности не мешают функционировать, такая позиция вполне оправдана. Иногда у индивида могут быть достаточно серьезные проблемы функционирования, но ему проще с ними мириться, чем принять идею, что с его психикой что-то не в порядке. Идея, что ты психически нездоров, очень страшная, и тем более страшная, чем больше в сообществе стигматизированы люди с психическими заболеваниями. Если на уровне общественного сознания лечение у психиатра не очень сильно отличается от лечения, например, у кардиолога, то человек, у которого присутствует некоторое психическое расстройство, с гораздо большей вероятностью признает его наличие и обратится за помощью, чем когда лечение у психиатра (тем более в стационаре) – это несмываемое пятно на репутации. Чем более стыдно быть психически нездоровым, тем больше в сообществе будет недиагностированных и нелеченых индивидов, которые могли бы функционировать гораздо лучше, если бы получали адекватную помощь.
Примерно так же срабатывают защитные механизмы у родителей особых детей. Быть мамой «дефективного» ребенка обидно и стыдно. Во-первых, у мамы собственная самооценка зависит от того, насколько развит, умен и успешен ее ребенок. Во-вторых, она боится мысли о том, что может быть как-то виновата в состоянии ребенка. В-третьих, у нее уже есть некоторые ожидания относительно будущего ребенка, и она часто бывает не готова отказаться от позитивного образа будущего, где ее ребенок будет успешным взрослым, и принять другое будущее, где она посвятит много лет уходу за инвалидом и попыткам адаптировать его к этому миру (а мир к нему). И это большая проблема, потому что иногда у мамы уходит несколько лет, чтобы смириться с реальностью того, что у ребенка есть серьезные трудности и он нуждается в помощи, а это как раз те годы, когда помощь была бы наиболее эффективна. Степень стигматизации здесь тоже играет большую роль. Когда «даун» – это слово с ярко выраженной негативной окраской, то маме ребенка с синдромом Дауна сложнее разговаривать вслух о трудностях ребенка, а окружающим, соответственно, сложнее воспринимать этого ребенка как живого человека, нуждающегося в поддержке. Поэтому, например, так ценны фильмы, книги, комиксы, где в качестве персонажей присутствуют особые люди. Они распространяют представление о том, что такие люди бывают, это живые люди с обычными человеческими проблемами (и некоторым количеством специфических), а не неведомые чудища.
– У меня ребенок аутичный.
– Как это?
– Ну, он типа Шелдона из «Теории большого взрыва».
– Ааа, ясно. У меня одноклассник был такой.
Когда нет стигмы, то диагноз становится не катастрофой, а просто фактом жизни, который нужно, естественно, как-то учитывать, но жизнь на нем не ломается и не заканчивается.
При некоторых психических расстройствах (например, при психозах в остром состоянии) непосредственно нарушается способность к критическому . На уровне симптоматики это проявляется, например, бредом. При этом человек становится неспособен объективно оценить свое состояние, потому что утрачивает контакт с реальностью. Мы не должны верить такому человеку, если он говорит, что у него все в порядке. Но с другой стороны, когда он находится в остром состоянии, то мы не сможем убедить его, что он нуждается в помощи, потому что рациональная аргументация в это время не действует. При определенных условиях такому человеку можно оказать помощь помимо его воли. Отечественное законодательство позволяет оказывать психиатрическую помощь принудительно в тех случаях, когда человек активно опасен для себя и окружающих, либо он может погибнуть, если его не госпитализировать. Последнее – это, например, случай старушки, впавшей в депрессию, которая ложится на диван и перестает есть. Она вроде бы и не пытается себя покалечить, но если не полечить эту старушку принудительно, то она имеет реальные шансы тихо умереть от голода на своем диване.
В норме (в том смысле, что по умолчанию у взрослых людей обычно это так работает) у нас сначала происходит некоторая когнитивная оценка ситуации, а потом в ответ на эту оценку возникает эмоция. Соответственно, мы можем управлять своими чувствами, меняя описание ситуации. Если мы описываем себя как неуспешного человека, то испытываем чувство неполноценности. Оно становится гораздо слабее, если мы меняем это описание на более подробное, например так: «мне трудно дается деятельность в ситуации конкуренции и соревнования, потому что я испытываю тревогу, которая мешает мне расслабиться и сосредоточиться на работе, и я боюсь оказаться неэффективным на фоне других». С этим уже можно работать: например, выбирать виды деятельности, не связанные с агрессивной конкуренцией. Утверждение «я тупой» при увеличении детализации может превратиться, например, в утверждение «я более медленно решаю математические задачи, тем большая часть людей, которые учатся вместе со мной (зато мне легко писать сочинения, а им трудно)», и это уже гораздо менее обидно.
При некоторых психических расстройствах эта механика работает наоборот: сначала возникает эмоция, а уже под эту эмоцию создается описание ситуации. Например, сначала сам собой возникает страх, а дальше психика достраивает обоснование. Почему мне страшно? Да потому что за мной охотятся спецслужбы, вот почему! Поэтому такое
Засада здесь заключается в том, что чем выше уровень интеллекта у человека, тем более убедительные и правдоподобные обоснования он может выстраивать в болезненном состоянии и тем, соответственно, его сложнее диагностировать.
Иногда бывает и ровно обратная картина: человек хорошо информирован о своем состоянии и готов информировать о нем окружающих, чтобы они были в курсе и в случае чего не удивлялись. А окружающие, скажем, никогда не сталкивались с психиатрией, существуют в режиме выживания и привыкли не обращать внимание даже на собственные чувства.
– Я весной не мог работать, у меня была депрессия, – сообщает человек, страдающий депрессиями.
– Депрессия у него… Да ты просто лентяй безвольный и ищешь себе какие-то оправдания вместо того, чтобы за ум взяться.
У людей, страдающих депрессиями, очень хрупкая самооценка. Они периодами ощущают себя совершенно никчемными и ничтожными людьми. Им нужно было бы наоборот слышать про себя что-то позитивное и воодушевляющее, а они вместо этого получают ворох дополнительных негативных оценок.
Применительно к детям картина аналогичная:
– Простите, у моего ребенка аутизм.
– Да ты его просто не воспитываешь, вот он и носится!
На маму особого ребенка ложится дополнительный груз: с одной стороны, у нее огромное количество сил уходит на попытки отрегулировать своего ребенка, а с другой стороны, ей нужно справляться с потоком осуждения со стороны тех, кто искренне не понимает, насколько это на самом деле трудно.
Уже не обычный, еще не больной
Существует несколько типичных направлений, в которых может изменяться психика. Совокупность состояний с различной степенью нарушения функционирования, но сходными проявлениями и похожей внутренней логикой называется спектром. Например, есть шизо-аутистический спектр, а есть циклоидный. Первый, если говорить в двух словах, объединяет «чудаков», а второй – людей с перепадами настроения.
У спектра есть несколько уровней. Ядро спектра составляют нарушения психотического уровня, которые характеризуются утратой контакта с реальностью. Применительно к аутистическому спектру это разные формы шизофрении. Человек в остром психотическом состоянии не может понять, где реальность, а где болезненные проявления; бредовые идеи кажутся ему совершенно достоверными, галлюцинации вплетаются в реальность. Мы не сможем рационально объяснить человеку в этом состоянии, что его идеи не верны, потому что в этот момент у него отсутствует критика к себе и к происходящему.
Означает ли это, что человек, у которого диагностирована шизофрения, постоянно оторван от реальности? Вовсе необязательно. Бывают формы с непрерывным течением, а бывают приступообразные. Если у человека приступообразная форма, то в отсутствии медикаментозной терапии ему свойственно периодически на какое-то временя терять контакт с реальностью. Например, весной и осенью его начинают очень сильно беспокоить происки спецслужб, и тогда он активно ведет просветительскую работу, распространяя технологии по защите помещений от прослушивания с помощью проволочных контуров и алюминиевой фольги. Вне приступов этот человек может быть вполне адекватен. Он может осознавать, что болеет, может испытывать стыд за за свое поведение во время приступа, может быть очень заинтересованным в профилактике обострений и ответственно подходить к приему препаратов. Например, классик отечественной психиатрии Виктор Кандинский имел приступообразную форму, и галлюцинаторную симптоматику при шизофрении он описывал в том числе на материале собственного случая. Должны ли мы отметать его работы на основании того, что они были написаны психически больным человеком? Нет, потому что в тот момент, когда он их писал, он мыслил ясно.
Второй уровень – это нарушения психопатического уровня. Здесь у человека сохранен контакт с реальностью, но у него очень тяжелый характер – настолько, что это серьезно мешает ему функционировать. Особенности психопатического плана характеризуются тем, что присутствуют у человека постоянно, на протяжении всей жизни, они проявляются во всех ситуациях, мешают жить самому человеку и обременительны для окружающих.
А третий уровень – это уровень акцентуаций характера. Здесь мы увидим людей, которые по своим проявлениям напоминают тех, у кого нарушения психотического или психопатического уровня. Но у них те же самые особенности будут выражены более мягко, и они не будут препятствовать нормальной жизни.
Всех представителей аутистического спектра объединяет ряд общих особенностей. Это люди, которым тяжело дается общение; они могут быть замкнутыми, стеснительными или просто не заинтересованными в других. Они производят впечатление чудаков: странно выбирают слова, необычно мыслят, неконвенционально ведут себя, как будто нарочно игнорируя принятые нормы (а на самом деле – не замечая, не чувствуя их). Они эмоционально прохладные, часто угловатые и неловкие. Им сложно осознать свои чувства, и телесные потребности они тоже ощущают слабее (могут, например, не замечать чувство голода). Они склонны к высокому уровню абстрагирования, поэтому часто их привлекает математика. У них могут быть необычные и очень устойчивые интересы, и они поглощены тем, что их интересует. Им нравится предсказуемость и ритуальность, это люди привычки и четко сформированных предпочтений.
Мы увидим эти особенности и у людей, страдающих шизофренией, и у шизоидных психопатов – синдром Аспергера, в частности, можно рассматривать как шизотипическую психопатию, – и у шизоидных акцентуантов. Но одних представителей аутистического спектра мы будем рассматривать как имеющих заболевание, а других – как здоровых людей, состояние которых является вариантом нормы. На каком основании мы проводим это разделение? Мы проводим его, понимая норму в функциональном смысле – как способность учиться, работать, общаться, действовать в коллективе, выстраивать отношения.
Если речь идет о человеке, больном шизофренией, то в остром состоянии, как мы понимаем, он нетрудоспособен, потому что погружен в переживания и недоступен диалогу. По мере развития заболевания у него может нарастать так называемый шизофренический дефект – совокупность симптомов утраты. Он постепенно утрачивает чувства, стремление к поддержанию контактов, у него падает уровень активности, и в какой-то момент он может потерять способность учиться и работать, потому что у него не находится достаточно ресурса на поддержание систематической целенаправленной деятельности. Такой человек получает инвалидность.
При шизоидной психопатии человек сохраняет достаточно высокий уровень активности и контакт с реальностью, но ему может быть очень сложно подстроиться под окружающих людей. Во-первых, он в них не очень-то и заинтересован, во-вторых, он может чистосердечно не замечать правил и норм, а в-третьих, его поведение сильно зависимо от его собственных внутренних правил, ритуалов и переживаний. Аутичный ребенок может просто отказаться заходить в класс, где его что-то напрягает (слишком шумно, слишком пестро, а почему дверь, а вдруг ее закроют). Если неожиданно изменилось расписание и вместо математики нужно пойти рисовать, то это может вызывать чудовищный дискомфорт вплоть до протестных реакций и истерики, потому что ребенок точно знает, что должна быть математика, а ритуал – это святое. И таких трудностей возникает множество. При этом у ребенка может быть высокий уровень интеллекта, а учиться ему все равно тяжело, потому что нарушено поведение.
Значит ли это, что такой ребенок вообще не может учиться в школе? Нет, не значит. Иногда это значит, что ребенку нужен тьютор, который будет сопровождать его на занятиях, принимая на себя часть функции регуляции поведения, которую ребенок еще не может осуществлять полностью самостоятельно, помогая ему удерживать внимание на предмете и взаимодействовать с другими людьми. Иногда это значит, что ребенку нужен какой-то альтернативный формат школьного обучения. Бывает, что ребенок может сидеть на уроке, но только если класс маленький, потому что ему нужно достаточно много индивидуального внимания и он плохо переносит скопления людей. И так далее. Неблагоприятный вариант – это когда ребенок выводится полностью на домашнее обучение, потому что у него уже изначально есть коммуникативные трудности, и если он при этом не получает коммуникативного опыта, то разрыв со сверстниками нарастает и через некоторое время может стать непреодолимым. Шизоидному или аутичному ребенку очень важно общаться – именно потому, что ему это тяжело. Другой неблагоприятный вариант – это когда ребенок вброшен в переполненный класс массовой школы, и никто не помогает ему адаптироваться к этой ситуации. Если ребенок на этом месте отключится от происходящего и уйдет в себя (будет, например, просто мирно раскачиваться весь урок), то польза от его нахождения в школе устремится к нулю.
Взрослый человек, который хорошо осознает свои особенности и ограничения, может сознательно стремиться к тому, чтобы их преодолеть. Мы можем встретить аутичных людей, которые методично учились общаться по книжкам, или аутичных людей, которые собирают всю доступную информацию о человеке, прежде чем вступить с ним в контакт (так они точно знают, как и о чем с ним разговаривать). Такой человек может достичь не просто нормального уровня функционирования, но в интересующих его областях даже сверхэффективного. Он все равно будет очень необычен, и некоторые его «психологические костыли» будут гораздо более энергоемкими, чем то, что они призваны заменять, но мы уже не можем сказать, что особенности этого человека мешают ему жить. Такого человека мы можем называть успешно скомпенсированным.
Частью адаптации шизоидного или аутичного человека является поиск той среды, той жизненной ниши, где характерные шизоидные качества не только не будут препятствием к деятельности, но даже могут дать определенное преимущество. В частности, мы увидим скопление людей с такой структурой психики среди математиков, физиков, программистов. На этапе получения профессионального образования социальная ситуация для шизоидных людей становится проще, потому что они оказываются в окружении себе подобных, а с себе подобными договориться гораздо легче. Как минимум, нет необходимости долго объяснять свои заморочки, когда у каждого второго они идентично такие же. Оборотная сторона этого как раз в том, что взрослые шизоидные люди достаточно легко договариваются между собой, однако им все равно оказывается трудно взаимодействовать со всеми остальными. Поэтому они себя комфортнее ощущают в рабочих коллективах, которые опять же состоят в основном из шизоидов. Отдельный плюс такой ситуации – это то, что когда вокруг все немного странные, собственные странности на этом фоне не выделяются, и можно почувствовать себя нормальным (относительно этого сообщества) человеком.
Закономерно, если есть компенсация, то есть и декомпенсация. Если человек с шизоидной акцентуацией, обыкновенное состояние которого мы квалифицируем как вариант нормы, окажется в каких-то непереносимых для него обстоятельствах, то его функционирование может на некоторое время нарушиться. Значит ли это, что он из нормального стал ненормальным? Нет, это значит только то, что данные условия выходят за пределы диапазона, в котором этот человек может адекватно функционировать. Например, если мы посадим замкнутого, эмоционально хрупкого шизоида на телефон, чтобы он там работал техподдержкой, то он кончится очень быстро, потому что не рассчитан ни на такое количество общения, ни на такое количество эмоций, которое некоторые люди могут выдавать, если у них что-нибудь не работает. Этот человек может начать, например, заикаться и тикать глазом, а потом и вовсе свалится больным. Значит ли это, что данный человек плохой работник? Нет, это значит только то, что ему не стоит работать оператором техподдержки.
Такой уж возраст
Как мы понимаем, человек не сразу и не одномоментно обретает все свои психические функции, возможности и ресурсы. Есть некий процесс развития, в ходе которого они формируются. Соответственно, мы говорим о нормативах развития – ожидаемом возрасте, к которому становятся доступны те или иные вещи. Например, пока у дошкольника еще не сформирована теория ума (или он еще не научился ее применять), он будет в разговоре со взрослым упоминать всевозможных Кать, Вань, Анн Викторовн и прочих людей, ожидая, что взрослый понимает, о ком идет речь. В районе пяти лет ребенок еще может так делать по инерции, но не удивится, если у него запросить дополнительную информацию. И это нормально, потому что соответствует возрасту. А вот если так будет разговаривать школьник, то это уже вызовет у нас некоторые вопросы. Мы должны будем заинтересоваться, что у этого ребенка с коммуникативным навыком и понимает ли он, что мы не знакомы с этими людьми. Если же взрослый уверенно считает, что окружающие «достают мысли из его головы», то мы можем захотеть найти для этого взрослого хорошего психиатра.
Некоторые вещи в целом рассматриваются как патологические симптомы, но считаются нормативными на определенных этапах развития. Например, обильная и навязчивая рефлексия с постоянными размышлениями о себе, о людях и о смысле бытия будет подозрительной, если мы ее наблюдаем у тридцатилетнего человека, но совершенно нормальной – у подростка.
Еще один важный момент – это то, что психологическое развитие не является полностью запрограммированным, а в значительной степени зависит от среды и от опыта, который получает человек. В частности, те нормативы дошкольного развития, которыми мы пользуемся для оценки того, насколько правильно развивается ребенок и насколько успешно он усваивает образовательную программу, были набраны десятилетия назад, когда многие социальные ситуации развития были другими. Естественно, что когда у ребенка нет возможности пойти во двор и полдня там болтаться с другими детьми без присмотра взрослых и когда дома ему выдают планшет с мультиками, чтобы нейтрализовать в нем желание общаться, то это получается совсем другая речевая ситуация, и нас поэтому не должно удивлять, если мы на детской выборке увидим отставание по речевому развитию, допустим, на год от принятых нормативов. Оно сигнализирует не о том, что дети массово поглупели, а о том, что вот в такой ситуации развития, которая сейчас есть у детей в условиях города, речь развивается медленнее и труднее, чем полвека назад. И опять же мы можем подходить к этому по-разному. Можем называть этот эффект педзапущенностью (то есть замедлением развития из-за неблагоприятной среды). А можем решить, что сегодняшняя среда не лучше и не хуже той – она просто другая. И тогда мы принимаем другие нормативы и решаем, что вот в такой среде детям естественно развиваться вот с такой скоростью. Но если мы посмотрим с функциональной точки зрения, то нас будет интересовать, достаточно ли ребенку тех речевых навыков, которые он успевает получить, для решения его жизненных задач: для учебы, для социализации, для выстраивания отношений. Обнаружив, что местами речевых навыков явно не хватает, мы можем сказать, что развитие правильно относительно среды (ребенок научился всему, чему мог в таких обстоятельствах), но функциональные возможности ребенка недостаточны для решения стоящих перед ним задач. Поэтому, несмотря на отсутствие каких-то нарушений развития, ребенку все равно могут потребоваться развивающие занятия и помощь специалистов.
Кто на нас с медведем
Если мы посмотрим на ситуацию первого класса школы, то некоторые проблемы, с которыми там сталкиваются дети, очень похожи на проблемы ролевых персонажей на начальном уровне развития. Вот, например, приходит в первый класс умный мальчик, потомственный математик. Худой, немного неуклюжий, очкастый, невероятно сообразительный. Кто это такой? Это волшебник первого уровня. Проблемы низкоуровневых волшебников известны — заклинаний (способов непрямого решения проблем) у них очень мало, а отправить в нокаут их можно одним ударом. Если мы выпустим волшебника первого уровня в лес с гоблинами, его там съедят. Первого гоблина, допустим, он завалит единственным имеющимся у него заклинанием, но за первым придет еще пятнадцать, и дальше понятно.
Как можно выруливать из этой проблемы? Первый вариант – мы можем мультиклассировать волшебника. Применительно к мальчику – отправить его заниматься каким-нибудь самбо или айкидо. Как мы ожидаем, после этого он будет способен дать сдачи, если его обидят. Но тут есть два нюанса: во-первых, если у персонажа низкие показатели силы, ловкости и выносливости (представляем себе костлявое близорукое дитя), то воин из него сомнительный, даже если он пройдет боевую подготовку. А во-вторых, у волшебника есть свои собственные задачи (читать много книг, в первую очередь), на которые ему нужно много времени. И мы мешаем волшебнику развиваться как волшебнику, когда пытаемся сделать из него кого-то другого.
Второй вариант, который обычно можно наблюдать в настольных ролевых играх, – это когда проблема решается путем кооперации. Отдельно взятый волшебник нокаутируется с одного удара, но если перед ним стоит четыре воина (которые его очень любят, потому что он им дает списывать математику), то это уже совсем другая история. Сейчас, на этом уровне развития, волшебник находится в слабой позиции, и ему нужна поддержка. Волшебники начинают слабыми и раскачиваются долго, но дойдя до высоких уровней, они обретают огромные возможности, и там соотношение сил может радикально поменяться. То есть двадцать лет спустя мы этого же очкастого мальчика можем увидеть большим начальником, к которому придут устраиваться на работу те самые ребята, за чьими спинами ему когда-то приходилось прятаться.
Чтобы это работало, волшебнику нужен определенный уровень социального навыка и определенные идеи в картине мира. Например, если он убежден, что ценность личности измеряется интеллектом («с дураками дружить не буду»), он не сможет вступить в такой кооператив. Он не сможет вступить в такой кооператив, если он убежден, что его
Если мы посмотрим на большой социум, то там мы можем увидеть похожие процессы. Например, есть люди, которые сознательно выбирают профессии врачей и учителей, понимая, что это будет тяжелая, неблагодарная и, вполне вероятно, плохо оплачиваемая работа. Они выбирают такие профессии, потому что хотят заботиться о других. Этим людям трудно отстаивать собственные интересы, и они будут безропотно продолжать заниматься своим делом, даже если им неуклонно ухудшать условия труда. Это их сила или слабость? Относительно отдельно взятого человека – слабость, потому что они не могут сами позаботиться о себе. А относительно большого социума – сила, потому что именно такие люди способны пронести культуру и гуманистические ценности через голод, войну и рыночную экономику. Что это за люди? Это жрецы, клерики. Если мы выпустим в лес с гоблинами отдельно взятого клерика, то без команды ему там будет так же кисло, как и волшебнику. Но и команде без клерика тоже придется нелегко. Если на уровне большого социума есть осознание ценности такой роли, то у представителей социальных профессий достойные условия труда, о них заботятся. Но большой социум может злоупотреблять их смирением и прогрессивно нагружать все большим количеством работы на все худших условиях. Тогда мы увидим выгорание клериков: они будут работать, пока у них хватит сил, а потом силы кончатся, и они либо сменят род деятельности, либо сменят мировоззрение и из добрых героев превратятся в злых. Очень многие равнодушные врачи и злобные школьные училки – это вот такие выгоревшие клерики. Понятно отсюда, почему в социальных профессиях преобладают женщины: если кооператив на уровне большого социума перестает работать (скажем, зарплата врача в поликлинике позволяет вести только нищенское существование и не позволяет прокормить семью), то женщина в этой ситуации может опереться на семейную кооперативную структуру и продолжать выполнять свою социальную роль, а мужчине, скорее всего, придется искать какую-то другую работу, потому что он в большей степени отвечает за материальное благополучие своей семьи.
Коротко
Какая здесь общая идея? Люди разные, и это нормально. Понятие психологической нормы связано не с одинаковостью, а скорее со способностью достаточно эффективно функционировать в обычных, не экстремальных условиях. Мы будем говорить о нарушении не в том случае, когда человек отличается от других, а в том случае, когда он не может справляться с определенными, достаточно обычными ситуациями: такими как школьное обучение, например. Мы не ждем, что любой «нормальный» человек будет способен решить любую задачу исключительно своими силами, но важный элемент успешной адаптации – это способность воспользоваться ресурсом группы или большого социума в тех случаях, когда собственных возможностей не хватает.
Принятие разнообразия людей помогает лучше понимать и учитывать возможности и потребности каждого отдельного человека — которые также могут быть весьма разнообразны. Если человеку для оптимального функционирования нужны какие-то специфические условия, это само по себе еще не говорит о ненормальности: только о том, что у этого человека есть определенные индивидуальные особенности.
Автор: Елизавета Ключикова