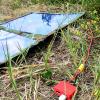В прошлый раз мы остановились на том феномене, что игра, которая изначально задумывалась как кооператив (например, D&D или многопользовательская песочница типа Space Station 13), почему-то может использоваться игроками совершенно по другому назначению, становясь пространством насилия и травли. Сегодня, соответственно, будем разбираться в том, как устроена детская (и не только детская) агрессия, как работает формат песочницы, что делает агрессия в песочнице (и вообще в игре) и как можно ей управлять.
Физика эмоции
В дальнейшем изложении мы будем использовать гидродинамическую модель эмоции. Представим себе, что, например, гнев – это жидкость. Чем больше накапливается гнева, тем сильнее становится напор жидкости в трубе – отдельно взятом индивидууме. На выходе есть два вентиля. Один соответствует внутреннему тормозу – представлению, например, о том, что обижать других людей дурно, некрасиво, недостойно… Второй соответствует внешнему тормозу – страху перед наказанием или какими-то другими негативными последствиями. Что будет, если давление жидкости нарастает, а вентили (хотя бы какой-то один из них) намертво закручены? Либо жидкость их просто сорвет (и мы увидим индивидуума в состоянии берсерка), либо разрушится сама труба, и тогда мы увидим либо депрессию, если саморазрушение пошло на психологическом уровне, либо язву желудка – если на физиологическом.

Теперь что касается детей. Если мы посмотрим с точки зрения этой модели, то один агрессивный ребенок отнюдь не эквивалентен другому агрессивному ребенку. Все они будут пытаться сеять хаос и разрушения, но происходить это будет по разным причинам.
- Ребенок, который построил вокруг себя всю семью, часто может быть очень агрессивным. Внутреннего тормоза у него нет, потому что у него не возникает необходимости тормозить какие бы то ни было собственные внутренние импульсы. Захотел смотреть телевизор – пошел смотреть, захотел куклу – поныл и получил, захотел в торговый центр – родители отложили свои планы и пошли его выгуливать, захотел стукнуть маму кулаком – понятно, посочувствуем маме. Внешнего тормоза нет, потому что этого ребенка практически не наказывают. Соответственно, как только ему что-то не нравится, он это сразу же выражает наиболее примитивным способом (кулаками), потому что необходимости в обретении более сложных способов выражения чувств у него не возникает.
- Ребенок, агрессия которого по отношению к сверстникам пресекается телесными наказаниями, а не развитием умения сочувствовать и договариваться, имеет хорошо развитый внешний тормоз и почти отсутствующий внутренний. Соответственно, пока его поведение контролируется папой с ремнем, он ведет себя как зайчик, а как только он попадает в ситуацию, где его не контролируют, то автоматически становится очень агрессивным и конфликтным. И мы увидим классическую ситуацию, когда дома ребенок ходит по струнке, а в детском саду он отыгрывается на других детях, раздавая тумаки направо и налево. И выстроить его поведение без физических наказаний будет очень сложно, потому что взрослый, который не может ударить, не воспринимается таким ребенком как авторитет. Такой сюжет чаще можно наблюдать у мальчиков.
- Вариант, более характерный для девочек, – это когда хорошо воспитанный ребенок из мягкой, интеллигентной семьи боится проявлять агрессию, потому что когда он агрессивен, это очень пугает его маму. У нее нет навыка взаимодействия с чужой агрессией, она не знает, как с ней быть. И она транслирует ребенку идею, что таким быть просто нельзя, потому что это ужасно. Здесь мы увидим очень сильный внутренний тормоз – ребенок не проявляет агрессию, потому что в его среде она абсолютно неприемлема. Это важный момент, что она не наказуема, а именно неприемлема. Соответственно, ребенок будет стараться сдерживать себя не только дома, но и вообще в целом. Однако давление жидкости, как мы понимаем, никуда не девается, и когда оно будет достигать некоторого порогового значения, мы увидим истерики. И чем сильнее самоконтроль ребенка, тем больше внутреннего напряжения у него успевает накопиться, прежде чем его взорвет, и тем более бурные эмоциональные свечки, соответственно, он будет выдавать. Такие дети – очень благодарные клиенты для игротерапии, потому что когда у них заводится социально приемлемый способ спускать пар (побить глину кулаками, например, или порычать, как тигр), жить им сразу становится гораздо легче.
- Кроме прочего, ребенок может становиться агрессивным на фоне переутомления. Тут нужно оговориться, что голова устроена все-таки немного сложнее, чем трубопровод, и системы торможения – это не металлоконструкции, а функционал лобной коры, которая вообще отвечает за произвольную регуляцию поведения. Лобная кора – очень энергоемкая штука. Соответственно, если человек устал и истощился, то наиболее затратные функции (в частности, произвольная регуляция поведения) начинают отваливаться. Самая расхожая ситуация из этой серии – это когда ребенок внезапно становится грубым, агрессивным и плаксивым, а на следующий день сваливается с температурой. Если ребенка снесло, потому что он устал, то воспитывать и наказывать его в этот момент совершенно бессмысленно. Он себя отвратительно ведет не потому, что не знает, как надо, или не хочет собой управлять, а потому что не может – сел аккумулятор. Ребенку в этот момент надо объяснить, что он устал (чтобы он сам от себя не пугался и понимал, что с ним происходит), и дать как следует отдохнуть – напоить чем-нибудь теплым, уложить в постель, книжку вслух почитать.
Дети, у которых есть какие-то нарушения в работе нервной системы («минимальная мозговая дисфункция» тоже считается!) часто бывают крайне чувствительны к магнитным бурям и вспышкам на солнце – как и сердечники, они в это время хуже себя чувствуют и им сложнее собой управлять. Если ребенка часто сносит без какой-то явной причины, имеет смысл отслеживать погоду на солнце – вполне может оказаться, что большая часть его необъяснимых истерик четко ложится на график солнечной активности. На взрослых этот эффект тоже работает. Взрослому, который чувствителен к солнцу, полезно понимать это про себя, потому что тогда он может задаваться вопросом: «Я сейчас хочу всех убить, потому что они этого заслужили или потому что на солнце погода плохая?»
Для гнева есть такие поводы…
И тут мы собственно подходим к вопросу о том, почему вообще возникает чувство гнева. Первый момент – это реакция на фрустрацию, когда мы чего-то хотели (нам что-то очень нужно), и мы это не получили, или у нас это отняли. Это, например, ситуация ребенка в магазине, когда ему очень хочется игрушку, а родители не хотят ее покупать. Когда ребенок хочет обследовать шкаф, а ему роста не хватает, чтобы открыть дверцу, или когда ему хочется продолжать играть, а надо идти на занятие, он тоже испытывает чувство фрустрации. Фрустрационная устойчивость у детей бывает разная, и этот параметр можно развивать упражнением. Если ребенок периодически сталкивается с ситуациями, когда ему чего-то хочется, но он это не получает, то постепенно он привыкает к идее, что так бывает, и очередная ситуация такого типа его раздражает, конечно, но она не является для него катастрофой. Другое дело, если в течение первых нескольких лет жизни ребенок получал все, что хотел. Для него ситуация фрустрации оказывается непривычной и вызывает очень сильные переживания. Чем больше продолжительность периода, в течение которого ребенок не получает опыта фрустрации, тем тяжелее он переживает ущемление своих потребностей, когда ему все-таки приходится с ним столкнуться, и тем более сильным будет его чувство гнева.
Отсутствие свободы действий сопряжено с постоянным переживанием гнева и раздражения из-за регулярно возникающих ситуаций, когда ты не можешь делать то, что хочешь, а должен делать то, чего не хочешь. Ребенок находится в ситуации несвободы практически до самого конца школы, это характерное для него состояние. Когда он совсем маленький, его свобода ограничена физически. Хотя мы учим ребенка, что нельзя обижать слабых, бить их и применять к ним силу, сами мы зачастую именно это и делаем: если нас не устраивает поведение ребенка, мы можем зафиксировать его физически, силой увести и т.д. Ребенок все время находится в слабой позиции, где ему очень тяжело отстаивать свои границы. В образовательных учреждениях, начиная с детского сада, насилие становится более тонким, но это все равно ситуация, где мало свободы действий и мало пространства для выбора. Взрослый может выбрать, что он будет есть на обед, когда и сколько он будет спать, где, кем и по какому графику он будет работать, чему и у кого он будет учиться. У ребенка всех этих степеней свободы нет. Он ест то, что приготовили в столовой, спит тогда, когда ему велели, учится по программе, которую не может выбрать, осваивая в том числе совершенно неинтересные и ненужные ему дисциплины, и значительную часть жизни находится в компании сверстников, которые могут быть и грубыми, и деструктивными, и манипулятивными, а деться от них никуда нельзя.
Даже у очень хорошего детского сада и у очень хорошей школы с демократичными отношениями между педагогами и детьми есть эта общая ситуация несвободы, заложенная в самый фундамент образовательного процесса. Поэтому дети с таким наслаждением фантазируют о том, как здорово было бы взорвать детский сад или школу. Не потому, что они всерьез ненавидят своих педагогов (хотя и такое бывает), а потому, что в образовательную ситуацию не заложена возможность выхода. Взрослый может бросить институт, пойти в другой институт, пойти работать, сбежать в Индию, в конце концов. Ребенок не может. Единственный выход, который он видит (да и то воображаемый) – это просто уничтожить то место, которое стесняет его свободу. Возможно, что это как раз и определяет популярность игр с сюжетом «побег из тюрьмы».
Ситуация слабости и несвободы – это корень детской любви к Халку. Халка нельзя остановить силой, Халка нельзя заточить в тюрьму. Если Халку что-то мешает, он просто разобьет это на мелкие кусочки. В тот момент, когда ребенок представляет себя Халком, он внутренне освобождается от той ситуации, из которой у него нет реального выхода.
Подвариант фрустрационного гнева – это гнев на фоне переживания неуспешности. Любому ребенку (и взрослому тоже) хочется ощущать себя в чем-то крутым. Это может быть какой-то небольшой кусок жизни, но главное, чтобы можно было чувствовать себя там успешным, умелым, опытным, эффективным. Ребенок может гордиться тем, сколько раз он отжимается от пола, или сколько он знает английских слов, или тем, как классно он рисует. Даже если какие-то вещи у него получаются не очень хорошо, в любом случае у него есть некоторое пространство, где он молодец. А что делать ребенку, если у него ничего не получается? Например, у него задержка развития или легкая степень умственной отсталости, и ему объективно все сложнее, чем сверстникам, потому что он до их уровня возможностей еще не дорос. А мы его, скажем, запускаем в инклюзивную группу детского сада или в массовую школу и требуем от него, как от всех остальных. Прежде всего, ребенку постоянно обидно, потому что он видит, как все что-то могут, а он нет. Дальше начинает формироваться выученная беспомощность – ребенок перестает прикладывать усилия к занятиям, потому что эти усилия, как ему кажется, бесплодны: так или иначе, он все равно неуспешен. Разрыв нарастает, ребенку становится еще обиднее. А дальше он начинает драться, хулиганить и заниматься вандализмом – с одной стороны, потому, что ему нужно девать куда-то свой внутренний напряг, а с другой стороны – потому что в этот момент он чувствует себя сильным, и это единственная ситуация в его жизни, где он может почувствовать себя сильным.
Отсюда, в частности, вытекает необходимость адаптированных образовательных программ, отвечающих возможностям ребенка. Если мы ставим перед ребенком посильные для него задачи, то он может почувствовать себя успешным. А если его вдобавок окружают те, кто не слишком отличается от него по уровню возможностей, то его самооценка не страдает, и ему не надо компенсировать ощущение неполноценности с помощью асоциального поведения.
Я, мое и никому не дам
Вторая важная причина возникновения гнева – это необходимость в защите своих границ: своих физических границ, своего пространства, своего имущества. Здесь у ребенка тоже много поводов для напряга. Начнем с того, что первичный симбиоз с мамой, который в норме заканчивается около года, на самом деле может кончиться гораздо позже, и у мамы иногда он длится дольше, чем у ребенка. То есть ребенок-то уже почувствовал себя отдельным человеком, а мама продолжает воспринимать ребенка как продолжение себя и говорит о нем исключительно словом «мы»: «Мы ходим в садик, мы заболели, нам хочется эту куклу». Соответственно, мама не стесняется нарушать личные границы ребенка – высморкать ему нос, одернуть на нем одежду, усадить его, как ей кажется правильным. Действительно, некоторые вещи ребенок до какого-то момента просто не может сделать сам. А потом его уже вполне можно просить приводить себя в порядок самостоятельно: «Вот тебе салфетка, поправь юбку, пододвинься ближе к столу». Иногда мама пропускает этот момент и по инерции продолжает все делать сама (это, ко всему прочему, существенно быстрее). Как правило, ребенку очень неприятно, что им манипулируют, как куклой. Ему, вполне вероятно, очень хочется вырваться в этот момент, но надо терпеть, и он терпит. Он смирно стоит с выражением отвращения на лице, и внутри у него в этот момент накапливается напряжение.
Личной собственности как таковой у ребенка почти нет – несмотря на все множество игрушек, которые ребенку покупают. Дело в том, что у ребенка нет свободы распоряжаться своими вещами. Если мама порвала свои джинсы, то это обидно, конечно, но это ее личное дело, что там происходит с ее джинсами. Если ребенок порвал джинсы, то его ругают, и ему приходится выслушивать лекцию на тему того, как нужно обращаться с вещами. То есть по сути это не его джинсы, а мамины, выданные ему во временное пользование, и она реагирует на их порчу как на порчу своей собственной вещи. С одной стороны, она права, потому что она же эти джинсы и покупала, и ей же придется покупать следующие. С другой стороны, каково ребенку, когда почти все его вещи – на самом деле чужие, и с ними надо обращаться как с чужими вещами? Вот у ребенка завелся друг, и он хочет ему подарить какую-то классную игрушку. Но сразу себя одергивает: «Я тебе эту машинку подарить не могу, потому что меня мама наругает». Что происходит в этот момент? Ребенок учится быть жадным. Это не та жадность, когда ребенок только-только осознал, что есть вообще такое явление, как право собственности, а жадность на уровне жизненной позиции. Сначала мама ребенка учит: «Пусть другим детям их мамы покупают игрушки, нечего им свои раздавать», – а потом уже и он сам верит в то, что отдавать другим свои вещи – глупое и вредное занятие. Дешевый китайский пластик в этом смысле хорош тем, что маме не будет обидно и жалко денег, если ребенок свою китайскую ерунду подарит товарищу, а ребенок в этот момент может испытать чистую радость дарения, не омраченную предвкушением того, как его будут ругать. Очень понятна в этом контексте любовь детям ко всякому, как нам кажется, мусору: камушкам, фантикам, стекляшкам. Эти вещи являются истинной собственностью ребенка, потому что ни одного взрослого они не заинтересуют, и никто не будет указывать ему, как ими распоряжаться. Он их может дарить, обменивать на другую ерунду, терять, ломать, модифицировать, использовать для творчества, и никто ему слова не скажет (потому что, скорее всего, даже не заметит).

С личным пространством история похожая. Даже если у ребенка есть своя комната, только, может быть, к подростковому возрасту он сможет сам решать, будет в ней порядок или нет. В детском саду личного пространства у ребенка нет почти совсем. Если он выбрал себе кусок ковра, чтобы на нем спокойно поиграть, он не защищен от возможности того, что в следующую минуту по этому куску ковра – прямо по его игрушкам – пронесется компания, играющая в догонялки. В спальне у него есть собственная кровать, но опять же, кто-нибудь может поскакать по этой кровати, сминая покрывало. Кажется, какая ерунда: съехало покрывало, можно поправить. А для ребенка это означает, что его личное пространство не защищено от стороннего вторжения. И это тоже будет источником стресса.
А теперь про то, чем ребенок отличается от енота
Человек, как мы знаем, это биосоциальное существо. Применительно к данному случаю это означает, что агрессивное поведение ребенка является не инстинктивным, а культурно опосредованным – то есть его можно формировать. Ребенок узнает от нас, как можно проявлять гнев, какие виды агрессии являются приемлемыми, а какие – неприемлемыми. При этом что-то он, конечно, выносит из словесных объяснений, но главным воспитывающим фактором является то, как ведут себя окружающие его люди, когда они разгневаны. Если ребенка наказывают физически, он выносит из этого идею, что если ты чем-то недоволен, можно ударить того, кто тебя рассердил, и этот личный родительский пример насилия работает сильнее, чем родительские же слова, что драться нельзя. То есть пока над ним висит угроза наказания, он, возможно, будет стараться не распускать руки, но на уровне убеждений у него нет веры в то, что бить другого человека – безусловно плохо.
Та же самая история с воспитательными грубостями. Все вот эти любимые взрослыми выражения, типа «а ну быстро села», «совсем тупая что ли?» и т.д. Ребенок, выслушивая эти слова, узнает, как надо разговаривать, когда ты раздражен или торопишься. Потом эти фразы они приносят в детский сад и разговаривают ими между собой. Практически все самое гадкое и грубое, что ребенок может услышать в детском саду от сверстников, было почерпнуто этими сверстниками от своих взрослых. Родители зачастую не могут отрефлексировать этот момент, потому что при них ребенок эти выражения воспроизводить не рискует. Бессознательно взрослый считает, что есть особая коммуникативная позиция взрослого, где он вправе ребенку грубить, потому что он его воспитывает, и ему кажется, что ребенок это убеждение разделяет, то есть что он не будет пользоваться взрослыми словами, а будет говорить своими, детскими (соответствующими по статусу). А ребенок в течение всего дошкольного детства социальную иерархию в общении учитывать не умеет. Годам к шести только у него может появиться эта способность (а может и не появиться). Он запоминает фразы ситуативно, но без социального контекста. Воспитательная грубость взрослого запоминается им не как фраза, которой надо ругаться старшему на младшего, а как фраза, которую любой может применить, если он сердит.
Но что здесь важно? Важно то, что если ребенку доступна речь, то он способен опосредовать свою агрессию речью. То есть не толкнуть сразу же товарища со всей силы, а сначала сказать: «Отвали, дурак». От уровня физической агрессии ребенок поднимается к уровню вербальной агрессии. Это важное достижение – в первую очередь с точки зрения обеспечения безопасности. Словом, конечно, можно очень сильно обидеть, но во всяком случае не убить и не покалечить. Кажется, кого может покалечить ребенок пяти лет от роду? А если этот ребенок пяти лет от роду поднимается вместе с группой с первого этажа на второй, и ему в районе верхних ступенек пришло в голову толкнуть товарища, при этом мы понимаем, что детей двадцать, но рук у воспитателя только две?
Прямой связи с интеллектуальным развитием способность сначала выругаться не имеет. Она завязана в первую очередь на коммуникативный опыт и наличие у ребенка необходимых коммуникативных шаблонов (хотя бы даже совершенно непечатных). Поэтому мы можем наблюдать повышенную физическую агрессию у очень умных детей, которая возникает на фоне нехватки коммуникативных навыков. Зачастую это связано вовсе не с тем, что умный ребенок конструктивно не способен научиться общаться. Это связано со сверхценностью интеллектуального развития, когда нам кажется, что если ребенок не учится читать и решать задачки, значит он в этот момент ничего полезного для своего развития не делает, и надо его немедленно посадить читать и решать задачки. В итоге ребенок может провести первые шесть лет жизни в обществе одних только взрослых, и когда он в конце концов попадает в общество сверстников, он не понимает, как себя с ними вести. Общение со взрослыми не может вполне подготовить к этому опыту, потому что дети ведут себя иначе.
Вот мы видим, например, как мальчик, который превосходно решает задачки, подходит к столу, обнаруживает, что его место занято, и начинает молча сталкивать другого ребенка со своего стула. Вполне возможно, что в этой ситуации хватило бы фразы: «Это мое место, подвинься, пожалуйста». Но у решателя задач нет этой фразы! Дома у него свое место за столом, на которое никто не претендует, и он просто не знает, как себя вести, когда место занято. И таких ситуаций – множество.
Мы могли бы сказать, что этому ребенку и не нужно общение со сверстниками, что ему и одному хорошо с его цифрами, но это будет неправдой. В тот момент, когда он впервые попадает в коллектив сверстников, ему хочется общаться, он готов это делать. Его проблема в том, что у него нет методики. Он пытается общаться с другими детьми теми словами, которые используют его собственные родители, когда хотят с ним пообщаться, потому что других слов у него нет. Он подходит к кому-нибудь и говорит: «Давай я задам тебе интересную задачку!» – или: «Хочешь я почитаю тебе энциклопедию?» И он совершенно искренне не понимает, почему это не работает.

Кажется, что решение очень простое: нужно научить ребенка тем коммуникативным шаблонам, которых ему не хватает. Но на деле догнать за один год то, в чем все остальные упражнялись предыдущие три года, совсем не легко. Как правило, ребенку не удается это сделать, и дальше он с этим дефицитом коммуникативного навыка уходит в школу. Там разрыв зачастую нарастает. Те, кто на предыдущем возрастном этапе научились общаться и завели друзей, продолжают общаться с уже имеющимися друзьями и заводят новых. А решатель задач, которого социальная ситуация больше не подталкивает к общению
(да ему уже и самому не хочется делать то, что все равно не получается), продолжает решать задачи. Академические навыки у него при этом развиваются, а коммуникативный – нет. И потом мы, конечно, можем объяснять его ужасающую социальную неловкость тем, что ему по складу ума проще иметь дело с цифрами, чем с людьми. Но почему мы не поддержали его в том, что ему было труднее? Почему мы занимались с ним только тем, что ему и так было легко?
Шкаф, конечно, не виноват…
Вторая способность ребенка в управлении своей агрессией – это способность перенаправить ее с того объекта, который непосредственно вызывает гнев, на какой-то другой. Если мы возвратимся к метафоре с трубой, то очевидно, что если мы выкрутим вентиль, вода польется и давление упадет независимо от того, в какую сторону повертнута труба. Если ребенок выразит свой гнев, то ему полегчает независимо от того, кому он его выразит. Более благоприятный вариант – это когда ребенок выбирает в качестве объекта атаки предмет мебели или игрушку. Шкаф, конечно, не виноват, но если у ребенка сейчас нет ресурса на то, чтобы интеллигентно сказать: «Я очень расстроен, что ты не разрешаешь мне прямо сейчас уйти, и я страшно на тебя зол», – то стукнуть ногой по шкафу безусловно лучше, чем стукнуть ногой по своему взрослому. Задача взрослого в этот момент – поддержать саморегуляцию ребенка и отреагировать на его чувства: «Я понимаю, что ты на меня очень сердишься, мне очень жаль, но я не могу разрешить тебе уйти. Давай ты поколотишь диван, а то о шкаф можно ушибиться». Что происходит в этот момент? Ребенок узнает, что надо говорить, когда ты очень сердит («Я очень сердит!»). Также он узнает, что его понимают и принимают вместе с его гневом (то есть он не стал плохим человеком от того, что сердится). А заодно он узнает приемлемый способ выражения гнева: взрослого бить нельзя, шкаф нежелательно, а диван, например, можно.
Это не сработает в ситуации, когда ребенок настолько устал и истощен, что уже не способен управлять своим поведением. До такого состояния ребенка нужно просто стараться не доводить, потому что там он будет недоступен диалогу и успокоится только тогда, когда у него кончатся силы (давление в метафорической трубе упадет до нуля). И это будет не его косяк, это будет наш косяк, что мы не поняли, когда ребенку пора отдыхать. Применительно к детскому саду это ситуация ребенка, который конституционально слабый, истощаемый, метеочувствительный, да еще интроверт, а мы его отправили на полный день в группу, где тридцать человек. Первые два-три-четыре часа он еще адекватен, а потом он одуревает от шума, обилия ограничений и сложной коммуникации и впадает в состояние берсерка. Что это значит? Это значит, что конкретно этому ребенку не надо в детский сад на полный день. Или во всяком случае что группа для него должна быть гораздо меньше. Потому что конкретно вот эта социальная ситуация для него запредельно сложна, и она научит его только тому, что коллектив – это очень, очень плохо.
Как мы понимаем, объектом, на который ребенок перенесет свой гнев, может быть и не шкаф. Это может быть другой ребенок или домашняя кошка. Такой вариант куда менее благоприятен, потому что здесь страдает не бесчувственная мебель, а другие живые существа. Такую стратегию поведения выбирают дети, у которых есть внешний тормоз, но нет внутреннего. Папу такой ребенок не стукнет, потому что папу он боится, а отлупить безответную кошку ему ничто не мешает. Почему не мешает? Потому что чувства других не являются для этого ребенка ценностью. Он о них не заботится.
Давай я тебя пожалею
Против распространенного убеждения, любви и заботе нельзя научить с помощью запретов и репрессий. Это активные установки, которые можно передать только положительным примером. Да, мы можем регулярно одергивать ребенка, напоминая ему, что нельзя рвать траву, ломать ветки, давить муравьев. Но психологически эти запреты не подкреплены для ребенка ничем, кроме страха, что его отругают. Совершенно другая ситуация, когда родители вместе с ребенком поливают деревья, выращивают цветы, делают кормушки. Когда у ребенка есть позитивный опыт заботы о природе, у него потом просто не возникает желания действовать разрушительно, потому что это не укладывается в его картину мира и положительный образ самого себя.
Аналогичная ситуация с чувством сострадания. Да, мы можем регулярно напоминать ребенку, что нельзя обижать других. Мы можем добиться, чтобы он соблюдал этот запрет (пока мы его контролируем). Но ребенок будет соблюдать его из страха, а не из реальной заботы о переживаниях другого. Сначала он должен увидеть, как взрослый заботится о его чувствах; он должен видеть, как взрослый заботится о чувствах кого-то третьего; он должен принять участие в этой заботе, должен научиться конкретным проявлениям заботы, буквально на бытовом уровне. Только тогда у ребенка действительно формируется установка заботливого человека.
Начинается все с простого. Вот девочка бежит на улицу с фарфоровой куклой – не могла с ней расстаться, не могла не поделиться радостью и не показать всем. Девочка спотыкается, роняет куклу, кукла падает на асфальт и разбивается вдребезги. Какую первую фразу она услышит от взрослых? «Сама виновата, нечего было брать ее на улицу!» Сколько таких ситуаций, когда у ребенка трагедия, а мы ему назидательно говорим, что он сам виноват? Положим, и виноват. Положим, не подумал, недоследил (нелегко за всем уследить, когда у тебя так мало жизненного опыта). Но он к нам в этот момент приходит не за нравоучением, а за сочувствием. И мы ему в этот момент показываем, как себя вести, когда у другого человека случилось несчастье. Наша холодная фраза «сам виноват» учит ребенка тому, что чувства другого человека не имеют значения; на них не стоит даже обращать внимание. И эту же фразу дети потом адресуют друг к другу. А потом они вырастают и становятся теми самыми троллями на форумах, которые приходят в темы, где люди жалуются на свои беды и неудачи, и говорят: «Что ты жалуешься? Ты сама виновата».
Объяснение подождет. Можно потом поговорить про хрупкие предметы и про то, что с ними бывает, когда они падают. Сначала обнять, сначала пожалеть, сначала подумать, нельзя ли склеить куклу. Если нельзя склеить, может быть можно сделать новую куклу с платьем от старой? Может быть, куклу надо похоронить? Не выкинуть в помойное ведро вместе с картофельными очистками, а закопать, например, под деревом в красивой коробочке.
Если мы научим ребенка технике оказания первой помощи – самой простой, хотя бы как давить «холодок» и прикладывать его к шишке, как заклеивать царапины пластырем, как наматывать бинт, ребенку не нужно будет драться, чтобы почувствовать себя сильным. Он будет чувствовать себя сильным в тот момент, когда оказывает помощь тому, кто ушибся. И ему будет приятнее в роли того, кто спасает, чем в роли агрессора. Спасатель – это позитивная, социально одобряемая роль. Можно рассказывать всем, как ты заклеил человека пластырем, и тебя похвалят. Наставленной товарищу шишкой так не похвастаешься!
Важный момент здесь в том, что ребенок приобретает для себя что-то ценное (переживание себя как спасителя, ощущение собственной компетентности, восхищение окружающих). Запрет не дает ребенку ничего, кроме ощущения ограничения свободы, поэтому ребенок и стремится сбросить его при первой возможности. Чтобы забота стала установкой ребенка, она должна быть для него позитивным опытом, а не каким-то очередным правилом, которое досадно ограничивает свободу действий.
Когда ярость становится игрой
Третья важная способность, которая есть у ребенка – это символизация. В частности, большая часть его дошкольного детства проходит в деятельности, которая только изображает что-нибудь настоящее. Он понарошку готовит еду, понарошку продает машины, понарошку запускает космический корабль. Точно так же он может понарошку проявлять агрессию. При этом он использует свою способность переносить гнев на другой объект, адресуя его игрушке или персонажу. Одновременно он может использовать способность к вербализации агрессии – не атакуя игрушку или товарища по игре физически, а просто описывая, что именно ужасное он с ними делает на плане воображения. В результате гнев обращается в игру, и ребенок, не совершив ничего объективно разрушительного, испытывает при этом вполне реальное облегчение. Поэтому дети так любят игры с агрессивными сюжетами: сначала войнушки, потом стрелялки.
Какие здесь есть подводные камни? Во-первых, игры с агрессивными сюжетами могут пугать взрослых. Пятилетний ребенок, когда понарошку стреляет из игрушечного пистолета, уже совершенно четко понимает, что никакого реального вреда это никому не приносит. Он потому и стреляет понарошку. Если бы он серьезно планировал кого-то атаковать, он бы кинулся с кулаками. А он в этот момент не хочет никому по-настоящему сделать больно, а хочет просто почувствовать себя сильным и непобедимым. Взрослые (особенно женщины) на эту же самую ситуацию смотрят другими глазами. Их сразу начинает волновать педагогический аспект игры. А вдруг у ребенка в этот момент закрепляется стрелятельное поведение? А вдруг он решит, что стрелять вообще весело и хорошо, и захочет стрелять в настоящих людей из настоящего пистолета? Кроме прочего, взрослый в новостях достаточно кровавых фотографий видел за свою жизнь, чтобы при желании в красках представить, что будет с настоящим человеком, если в него так пострелять из настоящего пистолета. Для ребенка все это глубоко условно, а для взрослого – реалия, с которой потенциально можно столкнуться, и он точно знает, что ничего хорошего в этом нет.
Сразу оговоримся, что разумное зерно здесь есть. В пятидесятые годы, когда в комиксах встречались реалистичные описания дизайна преступления, некоторые дети, проиграв историю в своем воображении несколько раз, иногда эти дизайны воспроизводили в реальной жизни (и довольно успешно). То есть технически ребенок может из чего-то понарошечного научиться вполне реальному насилию. Но какой именно ребенок? Комиксы в тот период выходили тиражами вплоть до миллионных, а читателей отдельно взятого выпуска могло быть еще в несколько раз больше, потому что журналами менялись и они переходили из рук в руки. Однако преступления, совершенные детьми, были все же единичными случаями (хотя и очень пугающими). То есть такое научение, будучи вообще возможным, происходило лишь изредка, при каких-то определенных дополнительных условиях. Доктор Вертхам, вошедший в историю комиксов как человек, который чуть было не закрыл индустрию, общался с этими малолетними преступниками по долгу службы как детский психиатр. Кого он видел на своих группах? Он видел детей из малообеспеченных семей, запущенных и заброшенных, которых воспитывали не столько родители, сколько улица и комиксы. Но разве комиксы были виноваты в том, что эти дети не находили лучшего способа почувствовать себя крутыми, чем ограбить магазин? То же самое касается игр. Миллионы детей играют в стреляки, но только отдельные дети приносят в школу огнестрельное оружие и открывают огонь. Это не те дети, которые больше других играют в стрелялки. Это те дети, у которых огромное внутреннее напряжение и нет отдушины. Это дети, у которых отчужденные отношения с родителями, у них практически нет друзей, и когда их что-то пугает или злит, им не с кем поговорить о своих чувствах – если они вообще умеют это делать.
То есть на самом деле гораздо большую роль здесь играет эмоциональное и коммуникативное развитие ребенка: насколько ребенок умеет осознавать свои чувства и справляться с ними, способен ли он поговорить о своих чувствах (научили ли его о них разговаривать). Важно, какой микроклимат в его семье, насколько у него теплые и доверительные отношения с родителями. Игра может показать насильственную модель поведения, но к выбору именно этой модели поведения в реальной жизни подталкивает не игра, а отсутствие других, более конструктивных вариантов. Однако, поскольку техническая возможность научения остается, в играх, мультфильмах и фильмах, предназначенных для детей, насилие показывают в максимально условной и минимально воспроизводимой форме. А заодно так, чтобы крови и натуралистичных физических повреждений не было видно, чтобы они случайно не проассоциировались с какими-нибудь положительными эмоциями.
Если ребенок понарошку стреляет в товарища по игре и понарошку же попадает, то это попадание для него – почти такая же математическая абстракция, как очки в настольной игре. Он не имеет цели причинить вред, не представляет себе в красках физические повреждения, наносимые товарищу (хотя бы потому, что не знает, как это выглядит), и понимает, что все происходящее – условно. Но что происходит, если в этот момент в игру влезает перепуганный взрослый с глазами по плошке и говорит: «Нельзя направлять пистолет на человека»? Недоверчивый ребенок в этот момент понимает, что взрослый дурак – не может отличить игру от реальности. Авторитет взрослого резко падает. Доверчивый ребенок внезапно задумывается о том, что происходящее в его воображении каким-то магическим образом может причинять реальный вред. Скольким детям их взрослые говорят: «Нельзя про такое говорить, а то сбудется»? Огромное количество детей в это верит – просто по инерции, потому что взрослые вообще много такого говорят, что нельзя проверить на практике, а собственного опыта у ребенка еще слишком мало, чтобы понять, где его обманули. Если взрослый серьезно пугается понарошечной агрессии, ребенок начинает бояться отыгрывать агрессию и испытывает вину, когда у него возникают гневные мысли (а вдруг мама заболеет и умрет, если я буду про нее плохо думать?). Что ему делать со своим гневом, если его нельзя выразить, нельзя отыграть и даже осознавать нежелательно? Вспоминаем про трубу, где оба вентиля закрыты. Либо у ребенка начнутся истерики и он будет выплескивать свое внутреннее напряжение бесконтрольно, либо сформируется невротическое расстройство и он будет мучать сам себя – страхами, навязчивыми ритуалами или ощущением собственной греховности.
Зарисовка из практики:
Мальчик, 6 лет. Поступает в подготовительную группу детского сада. Всю предшествующую жизнь воспитывался дома. Воспитательная концепция: ребенок должен быть настроен только на хорошее. Проявления агрессии абсолютно недопустимы. На всякий случай мальчику не показывают ни одного мультика, потому что там персонажи обижают друг друга. Результат: к шести годам развернутая картина невроза с тревожно-фобической симптоматикой. Дома в ванную ребенок может ходить только за руку с мамой. В саду в туалет ходить не может – боится. За общий стол сесть обедать не может – боится. Подушечный бой на территории группы вызывает панику. Ребенок плачет: ему кажется, что он видит что-то ужасное. Посещение группы полного дня в итоге оказывается невозможным, потому что всякий раз на следующий день после похода в сад ребенок заболевает.
Как расслабиться и полюбить атомную бомбу
Самая важная вещь, которую нужно понимать про ситуацию, когда ребенок наставил на тебя игрушечный пистолет – это то, что за этим не стоит ни ненависти, ни желания убить. За этим может стоять гнев, но ребенок выражает его очень аккуратным и безопасным способом. Он мог бы пнуть взрослого ногой, мог бы кинуть в него предметом, а он просто стоит с хищным выражением на лице и наставляет на взрослого игрушку, из которой даже выстрелить, скорее всего, не получится. Разве что водой.
Ребенку доставит удовольствие, если взрослый картинно испугается, но ему не нужно, чтобы взрослый пугался по-настоящему. Еще больше удовольствия он получит, если взрослый сложит пальцы в пистолет и сам «постреляет» в ребенка. Если ты играешь вместе со мной, значит ты принимаешь мою игру, а если ты принимаешь мою игру, то ты принимаешь мои чувства, которые за ней стоят, и принимаешь меня с моими чувствами. В тот момент, когда ребенок стоит с пистолетом в руке, он продолжает хотеть, чтобы его понимали, принимали и любили.
Зарисовка из практики:
– Я стреляю в тебя из пистолета! – говорит мальчик шести лет от роду, безумно уставший от детского сада, который он посещает в режиме «от рассвета до забора» двенадцать месяцев в году.
– Я тоже стреляю в тебя из пистолета! – отзываюсь я.
– Я бросаю в тебя атомную бомбу!
– А я бросаю в тебя атомную бомбу!
– Я вырываю у тебя сердце!
– А я вырываю сердце у тебя.
– Теперь у меня твое сердце, а у тебя мое. Теперь ты добрая, а я злой. <пауза> Я разрываю это сердце пополам, и другое тоже, и меняю половины местами. Теперь у тебя половина своего сердца и половина моего, и у меня тоже. Мы теперь можем быть друзьями.
…С этими словами парень идет обниматься.
Мирный атом и шахматы с кубиком
А вот теперь вопрос: чем отличается атомная бомба от атомной электростанции? Как мы знаем из школьного курса физики, скоростью и управляемостью реакции. Агрессия – это очень могучая сила, и иногда мы можем наблюдать, как дети, которые вначале вроде бы сражались понарошку, разыгравшись, в какой-то момент начинают лупить друг друга серьезно и по-настоящему, и на лицах у них в этот момент написана вполне настоящая ярость. Чаще это можно наблюдать у тех детей, у которых вообще есть трудности с саморегуляцией. Их, например, уложить спать очень тяжело, потому что они никак не могут успокоиться. Что происходит во время игры? Им весело, они возбуждаются. Потом они возбуждаются сильнее и сильнее, в какой-то момент они уже не могут контролировать свое возбуждение, и агрессия, которую они понемножку через полуоткрытый вентиль стравливали наружу, вырывается уже совершенно бесконтрольно. Минуту назад ребенок играл, а теперь атакует на поражение.
Что мы делаем, чтобы этого не происходило? То же самое, что делают высокоорганизованные животные: ритуализуем бои, вводя в них правила. Чем больше правил, тем более структурированным становится процесс, и тем меньше вероятность, что он станет хаотичным и неуправляемым.
Как, например, можно структурировать подушечный бой? Во-первых, только одна подушка в одни руки (если подушек достаточно много, то две). Таким образом мы исключаем ситуацию, когда один ребенок захватил много подушек и нападает на другого явно превосходящими силами. Во-вторых, безоружных не бить. Тут мы сразу исключаем нападение на «мирных прохожих», которые вовсе не собирались в это играть, а просто поблизости стояли. А также на тех, кто выронил свою подушку, поэтому в данный момент не может обороняться. В-третьих, не бить лежачего. Тут мы исключаем ситуации, когда один игрок споткнулся и упал, а другой начинает его «добивать» и может на волне эмоций перейти к ударам на поражение. В-четвертых, не нападать кучей на одного. Это тоже про равные возможности для участников и чтобы исключить ситуации, когда группа выбирает самого слабого игрока как мальчика для битья и начинает на нем отыгрываться. Это очень нехорошая групповая динамика, и ее лучше с самого начала исключить. Пятое правило – не бить по голове. Иногда бывает что рука соскользнула, удар прошел немного не так, как запланировано, и ребенок случайно бьет не подушкой, а кулаком, в котором у него зажата подушка. Соответственно, удары кулаком по голове и по лицу мы исключаем, остаются в основном удары по спине и плечам, где это даже кулаком будет не очень больно, если что. Некоторое время взрослый напоминает правила, дальше дети их усваивают и играют в соответствии с ритуалом.
Продолжим аналогию с ураном. Энергия гнева – это даровая энергия. Ее не надо в ребенке специально производить, она и так есть – просто в силу социальной ситуации. Мы можем эту энергию просто аккуратно выпускать, не допуская взрыва. Так происходит, скажем, во время подушечного боя. Полчаса дети скачут по комнате с подушками, через полчаса они потные, запыхавшиеся, умирающие от жажды и очень расслабленные. И это на самом деле очень хороший способ снизить уровень агрессии. Но тут у нас может возникнуть закономерный вопрос: а нельзя ли заставить работать ту энергию, которая сейчас просто вылетает в трубу?
Ответ: можно. Именно так работают настольные игры типа «сражение». Один из самых простых способов так поиграть с ребенком – это навесить на игру в его любимых солдатиков (супергероев, монстров, динозавров…) механику шахмат с кубиком. Если просто выдать пятилетним мальчишкам фигурки солдатиков (супергероев… и т.д.), то наиболее вероятно, что они будут просто ударять свои фигурки одну о другую, эпизодически промахиваясь и попадая по товарищу. Однако это не значит, что они не могут (или не хотят) играть более сложно. Первым делом мы задаем игровое поле в клетку. Сойдет и шахматная доска, если есть фигурки подходящего размера. Дальше нам нужны генераторы случайных чисел – один для передвижения, другой для поединка. Для передвижения сойдет и шестигранник, а для поединка нам нужна кость с таким числом граней, чтобы можно было упражнять ребенка в простых математических операциях на доступном ему уровне. Если ребенок пока ориентируется только в пределах десятка, берем десятигранник. С шестилетками, например, уже спокойно можно использовать d20. С передвижением все тривиально – оно происходит так же, как в любых бродилках. Если две фигурки оказались на соседних клетках, они могут сразиться. И тут мы сразу отметаем все стучание пластиком по пластику. Хочешь пойти в атаку – кидай бросок атаки. Противник кидает бросок контратаки на своей кости, и побеждает тот, у кого выпало больше. Что происходит? Ребенок по доброй воле (и с большим энтузиазмом) упражняется в математической операции сравнения. Стало слишком просто играть? Добавляем модификаторы. Если сражается Халк (а мы знаем, что он очень сильный), то его атака – это не d10, а d10+3. А если ходит Человек-паук (мы знаем, что он очень быстро перемещается на своей паутине), то его ход – это не d6, а d6+2. И так далее. Тут у нас уже появляются операции сложения и вычитания. Если ребенок очень хочет атаковать, то математика, стоящая между ним и победой в поединке, его не смущает, даже если он не то что бы фанат математики. Соответственно, поскольку победа здесь целиком определяется фактором случайности, а отдельных поединков в партии много, то каждый ребенок успевает несколько раз почувствовать себя победителем, и если его последнего бойца одолели, то это не катастрофическая ситуация: в конце концов, мы же всегда можем позвать подкрепление!

Таким образом при помощи одной доски и нескольких костей можно трансформировать разрушительную энергию гнева в вычислительную мощность (и да, это отлично работает с возбудимыми и гиперактивными детьми). Если мы разовьем эту тему, то придем к ролевым системам типа Dungeons&Dragons. Да, ты можешь убить этого монстра. Только сначала тебе надо бросить кость, прибавить к ней свой бонус силы, сравнить результат с классом доспеха твари, потом бросить еще одну кость, прибавить к ней парочку бонусов от дополнительных способностей и чар на оружии, а потом еще, возможно, поделить результат пополам, если у монстра есть сопротивление к такому виду урона. И вот так целый час. В результате игрок через некоторое время научается бодро жонглировать в уме несколькими разными параметрами, с легкостью складывая по пять штук разных бонусов от разных эффектов, чтобы зарубить одного какого-нибудь крокодила.
Однако и тут есть свои подводные камни. Если мы используем ролевую систему, то с большой вероятностью в нее будет заложена механика песочницы, что предполагает свободу действий для игрока. И тут начинаются довольно сложные процессы, но прежде чем мы перейдем к их рассмотрению, нужно разобраться, как вообще работают песочницы.
Не лезь в мою песочницу
Песочница в общем случае – это формат игры, когда все элементы доступны с самого начала, никакой специальной задачи перед играющим не стоит, и внешнего подкрепления тоже нет. Вот тебе всякая всячина, и делай с ней что хочешь.
Соответственно, играющий человек может обращаться с песочницей несколькими разными способами.
1. В песочнице можно заниматься свободным манипулированием. Особенно к этому располагает, например, песочница в самом буквальном смысле этого слова – как ящик с песком. Если в ящике кинетический песок, то можно до бесконечности наблюдать за тем, как он перетекает и рассыпается на кружева. Это тот формат игры, который часто можно наблюдать у очень усталых, истощенных детей (или таких же взрослых). Руки здесь заняты, а голова отдыхает, и можно насыщаться приятными сенсорными переживаниями: ощущением мягкого песка, сочными цветами деталей конструктора и т.п. Очень многие настольные игры можно использовать в этом качестве с усталым ребенком: взять, например, тайлы от «Листопада» и поскладывать из них бесконечный коврик – землю, усыпанную яркими осенними листьями.
2. Когда песочница уже знакома, и человек, в принципе, уже представляет, что в ней можно делать, появляется более сложный формат игры – это когда играющий сам себе ставит задачу и пытается ее решить. Помните классическую The Incredible Machine? Помимо многочисленных инженерных задач, заложенных в игру создателями, там был режим песочницы, где были доступны все детали, и можно было собирать из них механизмы произвольного назначения.
Естественно, задача, поставленная самим игроком может меняться по ходу игры. Начал он, например, строить из конструктора экскаватор, а потом понял, что из него получается отличный робот – и стал делать робота. Такая игра может быть настолько сложна и высокоорганизована, насколько хватит опыта конструирования и возможностей (включая пространственное). В режиме песочницы ребенок может использовать, например, такие способы соединения деталей, которые вообще не были предусмотрены изначально. Для любознательного ребенка это получается очень развивающий формат, потому что он хочет и может ставить перед собой сложные задачи и искать новые возможности использования компонентов. А для ребенка с задержкой психического развития, скажем, такого развивающего эффекта не получится, потому что думать просто так, для развлечения, ему обычно не хочется, и он будет делать в песочнице что-то максимально простое и однообразное. Для него более развивающим будет формат, когда есть карточки с заданиями, упорядоченные по уровню сложности.
3. Еще один вариант взаимодействия с песочницей – это когда в ней создают символический образ внутренней гармонии. Это очень медитативный, успокаивающий формат. Девочкам он более интересен, чем мальчикам, а взрослым – больше, чем детям. Например, именно для такого формата игры предназначена песочница Inner Garden. Там весь игровой процесс сводится к тому, чтобы размещать на игровом поле цветы, деревья, домики, беседки и тому подобное. Из этой же серии – выкладывание мандал и узорных «ковриков» из деталей мозаики. Здесь мы уже видим использование игры как интерфейса управления сознанием – пока играющий человек создает порядок из хаоса в рамках игры, похожий процесс происходит у него на внутреннем плане.

4. Последний вариант, самый интересный с точки зрения терапевтического использования игры, это когда играющий человек – чаще всего неосознанно – начинает визуализировать в песочнице свои переживания, установки, желания, тревоги… в общем, внутренний мир. Отсюда sandplay – игра с песочницей – как жанр аналитической терапии. Это характерно детский жанр, хотя им можно пользоваться и со взрослыми, потому что для ребенка естественный язык выражения чувств – это игра. Он переживает не через рефлексию, а через отыгрывание. Поэтому многие вещи в игровых сюжетах ребенка нужно понимать не буквально, а как метафору его переживаний.

Зарисовка из практики:
Мальчик, пять лет, диагноз – ранний детский аутизм. Еженедельно он приходит на игровую сессию, достает железную дорогу, ставит на ковер два-три фрагмента рельс, размещает на них паровоз, а потом говорит: «Поезд никуда не поедет».
В этот сюжет никак не удавалось вклиниться, его невозможно было развить, автор сюжета держался за него мертвой хваткой. Что-то очень важное выражал для него этот сюжет.
Через несколько месяцев, когда я уже отказалась от надежды что-то вытянуть из этой истории, мальчик посадил в паровоз человечка и сказал: «Это папа. Папа никуда не поедет».
Все это время он переживал развод родителей.
Диалог
Как понятно, человек может играть один, имея песочницу в своем полном распоряжении, а может играть с кем-то. Это, например, ситуация большой физической песочницы во дворе, или ящика конструктора в группе детского сада, или космической станции в Space Station 13. И вот тут начинаются всякие интересные процессы, связанные с несовпадением игровых задач.
Вот, например, в одном углу песочницы девочка делает красивый садик, втыкая травинки и цветочки определенным образом. У нее есть какая-то идея того, как это все должно выглядеть в результате, и она ее пытается осуществить. Что будет, если к ней подойдет другая девочка и попытается тоже повтыкать цветочков? Предсказуемо, первая будет недовольна и либо скажет: «Нет, не трогай, это мой садик», – либо начнет командовать: «Нет, это не сюда, это вон туда». Даже если обе девочки пришли в эту песочницу с целью сделать что-то красивое, им будет очень сложно достичь истинной кооперации, потому что у каждой в голове будет свой гармоничный образ, отступление от которого может очень сильно раздражать. Этот же эффект потом очень сильно осложняет работу в коллективе представителям творческих профессий: если они делают один общий продукт, а у каждого в голове свое представление о прекрасном, то любой вынужденный компромисс может переживаться как разрушение гармонии и вызывать обиду.
Более сложная ситуация, это если в песочнице один ребенок строит песочный замок, решая инженерную задачу на возведение высоких башен из рассыпающейся субстанции, а другой пришел в эту же самую песочницу отыгрывать чувство гнева. Для первого замок – это его детище, он его делает с большой заботой, очень старательно, он к нему уже привязаться успел. Для второго этот же замок – отличная штука, которую можно эпично разрушить. Дальше понятно: замок растаптывается, автор замка рыдает. Иногда взрослые пытаются утешать пострадавшего, говоря ему: «Ну это же он просто играл, ну подумаешь замок, ничего же страшного не случилось». На самом деле, случилось: когда ты во что-то столько души вложил, да, это безумно обидно, когда кто-то пришел и в одну секунду поломал все, что ты с таким трудом полчаса возводил. Замок-то, положим, игрушечный, а чувство горя в этот момент самое настоящее. Утешить автора, не обесценивая его труд и его переживания, можно словами: «А давай сделаем еще один замок, только еще круче, чем было?» Второму ребенку в этот же момент важно ощутить (как минимум вообще остановиться и заметить), что его действия могут очень сильно обидеть и огорчить другого человека; и хорошо бы, чтобы он тоже поучаствовал в починке замка. На этом моменте мы разговариваем про границы и подчеркиваем простые правила, типа того, что чужую постройку рушить нельзя. Если эти границы вовремя не расставить, то вот как раз те дети, у которых очень конструктивная, богатая, высокоорганизованная игра, начинают тихо ненавидеть коллектив вообще и детский сад или игровую площадку в частности, потому что когда они создают что-то классное, обязательно приходит кто-то другой и все разрушает. Получается парадоксальный результат: вроде бы мы запускаем детей в одно пространство, чтобы они там социализировались, а получается, что часть детей после этого хочет играть исключительно дома. И вот здесь становится ясна необходимость в модераторе – том человеке, который будет оберегать границы играющих и обеспечивать их эмоциональную безопасность.
Воспитание ребенка как песочница
Очень многие родители воспринимают своего ребенка (особенно первого, особенно когда они молоды) как вариант игры в песочницу. Кажется, что ребенок – это такой человек, которого ты можешь сформировать по своему вкусу, развив у него все навыки, какие захочется, вложив в него все идеи, которые считаешь правильным, передав ему все свои ценности и идеалы. То есть такой процесс развития персонажа, только в реальной жизни. И никто не скажет тебе нет, если ты захочешь сделать с ребенком что-то совсем необычное, — ведь это же твой ребенок, ты вправе.
Фактически, ребенок в этот момент является для своих родителей объектом. У них есть ощущение, что это они развивают ребенка, они создают из него личность. Проявления детской субъектности (когда ребенок, например, начинает сопротивляться развитию в ту или иную сторону) могут восприниматься ими как нечто негативное, потому что в этот момент ребенок мешает творческому процессу родителей, не дает им сделать из себя то, что они задумали. Этот поединок воль – между родителями с их воспитательной идеей и ребенком с его собственными возможностями, желаниями и интересами – может продолжаться вплоть до поступления в институт. Нередко бывает так, что человек получает не ту профессию, которая ему подходит и которую он бы сам хотел получить, а ту, на которой настояла семья. Дети со слабым темпераментом ломаются и теряют себя, стремясь выполнить все требования своих близких. Им потом очень трудно почувствовать, чего они хотят, потому что они не привыкли осознавать свои желания. Таким детям формат свободной игры иногда оказывается просто недоступен, потому что они не знают, как это – «делать что хочешь»? А дети с сильным темпераментом бунтуют против педагогического насилия, и потом им может быть очень трудно учиться чему бы то ни было, потому что они привыкают сопротивляться и на каждом шагу отстаивать свою субъектность.
Осознать, что ребенок – не чистый лист, а уже с самого рождения уникальный субъект с собственным темпераментом, конституцией, талантами и ограничениями, родителям зачастую довольно сложно. Если это первый ребенок, то его банально не с кем сравнить. Себя в том же возрасте родители обычно не помнят, а других детей они наблюдают гораздо реже, чем своего. Как им понять, что в поведении ребенка определяется возрастом, что воспитанием, а что – индивидуальными особенностями? Никак. Получается парадоксальная вещь: педагоги ребенка зачастую лучше себе представляют индивидуальные особенности ребенка и его возможности, чем его собственные родители, потому что они его соотносят со сверстниками и могут оценить, например, как более медленного, менее внимательного или более рассудительного, а родители видят просто отдельного ребенка, без контекста. Попытки строить диалог выглядят, например, так:
– Хорошо бы поиграть с Васей в такие-то и такие-то игры. Он, знаете, довольно медленный.
– И ничего не медленный, – возмущается мама, которая это поняла как ругательство. – У меня совершенно нормальный ребенок!
Неуспех в построении диалога мамы и педагога – это серьезная проблема, потому что у каждого из них только часть кусочков пазла, и ни один из них не видит всю картину. Педагог не знает, что происходит у ребенка дома (это сделало бы более понятными многие вещи в его поведении), а мама не знает, как ребенок ведет себя, когда она его не видит, и каков он в сравнении с другими детьми. В результате, например, мама не получает обратной связи, которая позволила бы ей понять, какие последствия имеет ее воспитательная стратегия. Субъективно она остается в рамках песочницы, где ей можно делать с ребенком все, что захочется.
Иногда установка «можно все» транслируется мамой ребенку: создавая из него «свободную личность», она переживает окружающих как досадные помехи для самовыражения ребенка, и ей просто не приходит в голову научить ребенка внимательно относиться к другим людям. Ее в этот момент интересует только один человек – ребенок. Она живет в рамках этого проекта. Других людей, у которых тоже есть какие-то потребности, в этом сеттинге нет. Ребенок выносит из этого идею, что его желания – это сверхценность. Попытки поговорить о том, что так не надо, это неразумная воспитательная стратегия, часто приводят к той же реакции, как у девочки, которая сажает травинки в песок: «не лезьте, это мой ребенок». Не потому, что мама действительно лучше знает, как надо, а потому, что игра, в которую она играет в этот момент, не предполагает других участников. Это ее сугубо личная игра в педагогическое творчество. Поэтому она не учитывает ни будущую жизнь ребенка (каково ему будет жить среди людей, привыкнув думать только о себе, как он сможет создать семью с такой установкой), ни потребности других людей, а исходит только из того образа, который сложился у нее в воображении.
Раннее развитие – это иногда такая игра в создание юного гения. Характерно, что там обычно с самого начала не задается главный вопрос: вот этот конкретный ребенок расположен к раннему когнитивному развитию, потянет ли он это, будет ли ему это интересно? Есть дети, которые с огромным удовольствием года в четыре выучиваются читать с минимальной помощью взрослых. А есть другие, которые выучиваются читать в шесть лет, «так уж и быть». Это разные дети с разными стартовыми особенностями. Второй важный вопрос, который тоже обычно не задается, это каково будет жить ребенку, если мы достигнем успеха во всех своих педагогических манипуляциях. Утрированный пример: допустим, он пойдет в школу в пять, в институт – в двенадцать. Как он будет находить друзей среди всех этих людей, которые на несколько лет старше него? Как он будет находить друзей среди сверстников, которые знают насколько меньше него, что он едва может найти с ними общую тему для разговора? Как ему выйти из роли вундеркинда, чтобы его воспринимали не как диковинку, а просто как живого человека? (И как ему смириться с тем, что он больше не вундеркинд, а обыкновенный взрослый?)
Это, например, то, о чем писали выросшие дети Никитиных – здорово, когда тебе в школе все легко дается, но очень тяжело, если ты перескочил через пару классов, у тебя со всеми 2–2,5 года разницы в возрасте, и ты оказываешься в ситуации социальной изоляции. Что характерно, им не захотелось, чтобы такой же опыт получили их собственные дети.
Чем больше ребенок отличается от других детей, тем сложнее им принять его и тем чаще он будет сталкиваться с отвержением. Чем более необычную траекторию развития мы для него выстраиваем, тем более необычным человеком он получится – и тем, соответственно, сложнее будет происходить его социализация. В тот момент, когда мы решаем сделать из ребенка воплощение каких-то необщепринятых идей, мы выбираем для него будущее (не спросив его, без его участия), в котором ему будет очень непросто жить. Но когда воспитание ребенка – это песочница, такая мысль просто не посещает, потому что у песочницы нет социального контекста (и даже, по большому счету, нет временной перспективы). Это ситуация, замкнутая на саму себя.
Ролевая система как песочница
Одно из самых сильных переживаний от ролевых систем – и особенно это касается формата pen&paper, где функционирование игровой вселенной полностью обеспечивает мастер, – это переживание безграничной свободы. Можно подать заявку на любое действие, какое захочется: можно отправить своего персонажа охотиться на гигантских кроликов, можно послать его в кабак, чтобы он там напился до беспамятства, можно заняться разработкой техномагического оружия в условиях сказочного средневековья… Интересный момент здесь заключается в том, как именно игрок выбирает линию поведения, если мы его – по крайней мере на первый взгляд – ни в чем не ограничиваем.
Если игрок в жизни постоянно ощущает, что его свободу стесняют и ограничивают (а это, к примеру, нормальное состояние почти любого школьника), то его естественный импульс – во-первых, немедленно воспользоваться свободой, чтобы сделать то, что нельзя делать в реальной жизни, а во-вторых, выпустить накопившееся напряжение, отыграв насильственные или разрушительные действия. Поэтому, несмотря на наличие социально приемлемых относительно игрового мира способов отыгрывания агрессии (типа отстрела орков в ближайшем лесу), мы закономерно будем наблюдать асоциальное поведение игровых персонажей: например, попытки убить, изнасиловать или ограбить мирных горожан. Игрок в этот момент переживает свободу через отрицание ограничений, наложенных на него социумом. В этот момент он ведет себя как ребенок во время кризиса трех лет, который все стремится делать наперекор родителям. Трехлетнему ребенку важно почувствовать, что он действует по своему собственному решению и собственному желанию, а не по указанию других, и вначале он определяет свою волю от противного – как то, что строго противоположно родительским указаниям. Когда он научится непосредственно ощущать свои желания, такой объект отрицания будет ему уже не нужен.
Игрок, помещенный в ситуацию открытого мира со свободой действий, начинает с того же: он определяет свою свободу как возможность делать все, что до сих пор было запретным. Например, это определяет популярность игр серии Fallout – там у игрока есть открытый доступ к тем областям, где в реальной жизни больше всего ограничений, запретов и табу: то есть к насилию, сексу и наркотикам. Не то что бы игроку действительно очень хотелось грабить, убивать и обдалбываться в реальной жизни, но сам опыт того, что он может сделать это в игре, является для него подтверждением полной свободы действий. И важная часть этой свободы – возможность свободно проявлять агрессию.
И снова про шкаф
Как мы помним, агрессия может быть перенаправлена с одного объекта на другой, что собственно и дает возможность ее отыгрывать. И здесь игрок опять же имеет выбор между отпиныванием живого человека и отпиныванием предмета мебели, в роли которого в данном случае выступают орки и гоблины.
Теоретически, если мы запускаем несколько игроков как команду в один сюжет, то это игровая ситуация кооператива. На деле, если мы объявляем игроков командой, то это еще не значит, что они будут друг друга поддерживать. Мы можем наблюдать в команде игровых персонажей такие же варианты динамики, как в естественном коллективе: кто-то из персонажей может стремиться действовать независимо от других, кто-то может попытаться занять позицию лидера и навязать остальным свою волю (и у других игроков это может вызывать протест), между персонажами игроков могут возникать конфликты, или несколько персонажей могут ополчиться вместе против какого-то одного.
И здесь большое значение имеет то, в каких отношениях игроки находятся между собой. Если они знакомы и за пределами игры и в целом хорошо друг к другу относятся, то вероятность того, что они будут атаковать персонажей друг друга, в общем, невелика, потому что если они заинтересованы в своих хороших отношениях, то вряд ли захотят их портить. В конце концов, вокруг вполне достаточно шкафов… в смысле, орков.
Другая ситуация – если игроки видят друг друга впервые в жизни и потом, вполне вероятно, больше уже никогда не встретятся. Внешний тормоз в виде нежелания портить отношения в данном случае отсутствует – потому что нет отношений. У части игроков, тем не менее, будет срабатывать внутренний тормоз – убеждение, что портить другому человеку удовольствие от игры нехорошо. Это, собственно, те, кто на предшествующем возрастном этапе научился уважать чужие границы и не топтать чужие песочные замки. Но могут прийти и другие игроки – те, у которых очень сильна потребность отыграть агрессию (очень высокое давление в метафорической трубе), и при этом чувства другого человека не являются для них чем-то безусловно важным. То есть это те, кому забыли объяснить, что ломать чужую постройку нехорошо. Их игра эгоцентрична – они удовлетворяют в игре свои психологические потребности, игнорируя потребности и чувства других игроков. И вот здесь мы можем увидеть атаку на чужого персонажа. Не обязательно это будет физическая атака – возможно, она примет форму словесного унижения и оскорбления.
Реальность нереального
Донести до агрессора идею, что так в игре делать не надо, может быть довольно сложной задачей. Первый аргумент, который идет в ход: «А что такого? Это же все не по-настоящему».
Если бы мы говорили о воображаемых перестрелках пятилетних детей, то это было бы верно. Там и пистолеты условные, и раны условные, и персонажи условные (просто бандит, просто солдат, просто робот), и если тебя убили, ничего страшного – у тебя еще четыре жизни. Такая игра сильных эмоциональных следов обычно не оставляет, потому что она настолько абстрактна, насколько возможно. То есть, разумеется, встречаются дети пяти-шести лет, которых игра в войнушку может всерьез напугать, но это, как правило, не проблема игры как таковой, а проблема того, что вот этот конкретный ребенок очень впечатлителен, с очень высоким уровнем тревоги, и у него пока еще нет четкого представления о грани между реальным и воображаемым. Такой ребенок и плюшевую игрушку может всерьез испугаться (да, и такое бывает).
С системами типа Dungeons&Dragons история другая, потому что они рассчитаны на глубокое погружение в игру. Мастер, со своей стороны, старается сделать игровую вселенную как можно более реальной для игроков. Игроки посвящают большое внимание созданию своих персонажей: продумывают их внешний вид, поведение, прописывают предысторию (вольно или невольно передавая персонажу свои собственные чувства и жизненные сюжеты). Результатом этого является то, что игрок глубоко идентифицируется со своим персонажем и очень ярко переживает все, что с ним происходит. Благодаря этому опыт, который человек получает в игре, может оказывать почти такое же сильное воздействие, как если бы все это происходило в действительности.
С одной стороны, это означает, что в ходе сессии игроки могут переживать друг к другу очень сильные чувства благодарности, заботы, единства – например, когда они спасают персонажей друг друга от гибели, когда они лечат друг друга, когда вместе им удается сделать что-то такое, что ни один из них не смог бы сделать поодиночке. О некоторых из таких эпизодов они будут вспоминать с большим теплом годы спустя. Но это означает и другую вещь: если персонаж игрока оказывается в травматичной ситуации, то это может стать разрушительным опытом для самого игрока. Сексуальное насилие на игровой сессии, остается воображаемым, но чувства ужаса, незащищенности, стыда и гнева, которые испытывает в это время игрок, являются вполне настоящими. И эти чувства тоже могут остаться с ним на долгие годы.
Бремя мастера игры
Для мастера это означает, что как модератор игры он несет ответственность за психологическую безопасность своих игроков. Мастер, как мы понимаем, может осознавать или не осознавать эту ответственность, принимать ее на себя или отказываться от нее. Если играет компания старшеклассников, и мастер – это такой же старшеклассник, как все остальные, то весьма вероятно, что он не сможет полноценно обеспечивать безопасность игры, потому что он не настолько зрел психологически, чтобы отвечать за других людей. (Он и за себя-то не очень…) Поэтому в такой ситуации психологическая безопасность игровой сессии будет определяться в первую очередь качеством отношений между игроками. Если играют близкие друзья, то им просто не захочется друг друга атаковать. А если это произвольно набранная компания в каком-нибудь клубе? Здесь уже вполне возможна ситуация, когда что-то пошло не так, а мастер отстранился и не делает никаких попыток вырулить игроков из явно деструктивного сюжета. Формально говоря, он и не подписывался быть групповым терапевтом. Его задача – обеспечивать функционирование мира на уровне игромеханики.
Если мастер все-таки задается целью обеспечить психологическую безопасность игроков, то в его распоряжении есть несколько инструментов.
Первый и самый очевидный инструмент – это комплектация группы. Если группа комплектуется из людей, которые уже дружат между собой, вероятность отыгрывания агрессии на живых людях невелика. Вряд ли игрок решит атаковать своего друга, и маловероятно, что он захочет атаковать друга своего друга (хотя такой вариант и не исключен). Если игроки не знакомы между собой, то имеет смысл познакомить их до начала кампании – как минимум, чтобы убедиться, что между ними нет какой-нибудь личностной несовместимости. Если два игрока испытывают выраженную неприязнь друг к другу, вероятность стычек между их персонажами резко возрастает. О том, что делать в таких случаях, Гари Гайгакс, один из создателей D&D, писал очень просто: «Игроки, которые друг друга терпеть не могут, не должны находиться в одной команде». Да, существует техническая возможность наладить отношения между двумя людьми, усадив их играть в кооперативе или делать что-то вместе. Но D&D для этого сомнительный инструмент, потому что оставляет игрокам слишком много возможностей для внутрипартийной агрессии.
Второй инструмент обеспечения безопасности – это обозначение границ допустимого. С точки зрения игрока, если он находится в песочнице, где все можно, то это буквально означает, что можно все. У игроков от подросткового возраста и старше мы на этом месте сталкиваемся, например, с проблемой сексуального насилия на играх. Ситуация осложняется тем, что во многие популярные сеттинги тематика сексуального насилия заложена на уровне канона. (Откуда, вы думали, взялись полуорки?) Но если известно, что в рамках сеттинга такое в принципе бывает, как объяснить игроку, что он не может так делать? Высказывались предложения, что игрок, который не согласен, чтобы с ним отыгрывали сексуальное насилие, должен каким-нибудь специальным бэджиком это обозначить. Чтобы оценить унизительность этого решения, представим себе правило внутреннего распорядка, которое предписывает сотрудницам носить специальные значки, если они возражают против харрасмента на работе, а в случае отсутствия такого значка похабные шутки в адрес дамы и хватание ее за задницу считаются вполне допустимыми.
Опять-таки, если у игрока есть сформированный внутренний тормоз в виде заботы о чувствах другого человека, то можно ожидать, что он так играть не будет. Если этого тормоза нет, то идея, что твоя свобода заканчивается там, где начинается личное пространство другого человека, оказывается недоступной. И в этом случае становятся необходимы четко заданные границы и табу на игре. То есть мастер, например, с самого начала объявляет, что на его игре будут неприемлемы сексуальное насилие, педофилия, зоофилия и пытки. Дальше игроки знают, что вот это точно нельзя, а мастер имеет понятное всем основание для удаления из партии игрока, который не готов уважать чужие границы. Если в игре в принципе предполагается сексуальный контент (а это ожидаемая тема для юношеских и взрослых команд), то его количество и качество обсуждается до начала партии. Важно убедиться, что все игроки понимают границы допустимого, с одной стороны, и готовы к наличию рейтингового контента – с другой. Диапазон возможностей здесь велик (от минималистичного взаимодействия с неигровыми персонажами – проститутками, как в Planescape: Tornment, которое почти полностью сводится к оплате их услуг, до развернутого описания полового акта), и если мы заранее не оговариваем, что из этого диапазона приемлемо, то игроки, весьма вероятно, будут молча ориентироваться на собственные желания и вкусы, не сообразуясь с зоной комфорта друг друга.
Третий инструмент – ограничение пространства для отыгрыша. Здесь логика та же самая, как выше, когда мы разговаривали о шахматах с кубиком. Если разрушительный импульс игрока так силен, что он не может самостоятельно его контролировать, то мы загоняем этого игрока в тиски игромеханики. Чем более структурирована игра, тем меньше в ней от песочницы, но и тем меньше, с другой стороны, вероятность, что что-то пойдет не так. Во-первых, мы сразу исключаем игру в формате открытого мира, а используем модули со строго линейным сюжетом. Во-вторых, мы оставляем минимум пространства для свободного социального взаимодействия и максимум времени отводим на боевые сцены. В-третьих, мы ограничиваем доступные варианты мировоззрения, исключая возможность создания заведомо злого персонажа. Последнее связано с тем, что если мы позволяем игроку создать злодея, то потом он любые враждебные действия в отношении членов команды сможет оправдывать тем, что такая уж у него злодейская роль. Это не означает, что создавать и отыгрывать злых персонажей нельзя разрешать никому и ни в какой кампании. Технически, партия может состоять из одних злодеев, дружно и слаженно решающих задачу по захвату мира, или она может содержать отдельно взятого черного мага (вспомним Рейстлина из «Саги о копье»), в котором чистейшая мизантропия вполне уживается с умением работать в команде. Но это довольно рискованные и нетривиальные для отыгрыша сюжеты. С ними можно экспериментировать, если игроки в хороших отношениях между собой, они достаточно зрелые и осознанные люди, и они хорошо контролируют свои разрушительные импульсы. Незнакомому игроку лицензию на то, чтобы быть злодеем, выдавать однозначно не стоит.
Четвертый инструмент – это управление групповым сплочением. Здесь та же логика, что и вообще в кооперативных играх, о механике которых мы разговаривали в прошлый раз. Если монстры достаточно сильны, чтобы их можно было одолеть только слаженными усилиями, игроки заинтересованы друг в друге. Если у каждого из игроков свой набор способностей, а встающие перед ними игровые задачи требуют всех этих способностей одновременно, то игроки заинтересованы в том, чтобы кооперироваться и координировать свои действия. С другой стороны, когда команда терпит неудачу, то это может стать причиной конфликта, поскольку игроки могут начать обвинять в этой неудаче друг друга. Мы помним, что психологически игроки очень много инвестируют в своих персонажей, и если персонажи гибнут, игроки испытывают вполне настоящее чувство горя. Если мастер не ставит себе специальной задачи привлечь внимание игроков к тому, что они ведут себя суицидально, то лучше в последний момент прислать подкрепление, чем допустить, чтобы команда сначала погибла, а потом переругалась.
В конечном итоге все сводится к тому, что монстры должны быть достаточно сильны, чтобы заставить игроков объединиться, но недостаточно сильны, чтобы убить команду. Кроме того, они должны быть достаточно доступны, потому что если их приходится долго и сложно искать, у игроков может возникнуть искушение найти себе другой объект для отыгрывания агрессии. А если их недостаточно много, то игроки могут начать конкурировать за возможность порубить тварь в капусту, и это тоже является потенциальным источником конфликтов – как и любая конкуренция за ресурсы.
Нормально же все было
При попытке обсудить границы приемлемого мы можем столкнуться с тем, что одни и те же слова для разных игроков означают разное. Что такое, например, оскорбление? Если один игрок другого назвал, допустим, шлюхой, то это оскорбление или не оскорбление? Может оказаться, что для одного игрока это крайне обидное и неприемлемое слово, а для другого – нормальный бытовой язык.
Применительно к подросткам мат зачастую действительно является бытовым языком. Во-первых, он им позволяет сбросить внутреннее напряжение, а во-вторых, символически обозначает освобождение от тирании взрослых (которые имеют наглость указывать, какие слова допустимы, а какие нет). И на определенном возрастном этапе в некоторых социальных группах мы действительно сможем наблюдать, как подростки друг к другу вполне миролюбиво обращаются совершенно непечатными словами. Примерно так же работают некоторые взрослые коммуникативные среды. Убедить человека, что его нормальный бытовой язык другому человеку может быть оскорбителен, – это нетривиальная задача. Игроков с сильно несовпадающими культурными кодами может быть проще развести по разным командам, чем наладить между ними обоюдно комфортную коммуникацию.
И здесь мы выходим на более широкую проблему – проблему привычного уровня агрессии. Как мы помним, агрессивное поведение человека социально по своей природе, он ему выучивается. Точно так же человек выучивается от окружающих тому, что является допустимым, приемлемым уровнем агрессии, а что – запредельным. И здесь важно понимать, что приемлемость – это не какое-то реально существующее свойство, а предмет внутренней договоренности конкретного сообщества. Точкой отсчета, которая для отдельно взятого индивида задает первоначальное представление о нормальном, является тот уровень агрессии, который он в детстве наблюдал у себя дома. В частности, если члены семьи имеют обыкновение орать друг на друга во время конфликтов и орать на ребенка, если он делает что-то не так, мы можем ожидать, что выросший в этой семье ребенок в конфликтных ситуациях тоже будет использовать крик (и не очень сильно удивится, если накричат на него). Если мы к ребенку регулярно применяем физические наказания, то это, соответственно, нормализует для него физическую агрессию. Эмоциональное насилие, регулярно применяемое к ребенку, нормализует для него эмоциональное насилие, оскорбления нормализуют оскорбления, и так далее.
Агрессивное поведение, которое опирается не на проблемы самоконтроля, а на эффект нормализации, крайне затруднительно корректировать. Поэтому, например, семейная терапия оказывается бессильна наладить отношения в паре, где один из супругов является абьюзером, если абьюзер вполне уверен в том, что бить или унижать жену – нормальное и правильное воспитательное воздействие. Он не перестанет вести себя таким образом, потому что у него нет проблемы с тем, что он делает. Ему с этим нормально, и он вполне доволен собой. Если проблема есть у его женщины, то единственное, что может сделать в этой ситуации женщина, – найти себе другого партнера. Ситуация ребенка, родитель которого верит, что побои – это очень хороший и правильный педагогический прием, гораздо печальнее: он не может самостоятельно выйти из той ситуации, в которой находится. Третьи лица, как правило, бессильны убедить такого взрослого, что он не прав. Относительно своего жизненного опыта и своей картины мира он все делает правильно. «Меня же в детстве били, и я нормальным вырос! Потому и вырос, что вколотили в меня ума!» Ребенок, соответственно, со временем принимает физическое насилие как часть нормальной семейной жизни и в дальнейшем, как можно ожидать, также будет практиковать его в своей семье. Таким образом деструктивные способы взаимодействия оказываются крайне устойчивыми на уровне целого сообщества, передаваясь из поколения в поколение методом научения.
Нормализованный уровень агрессии является для человека областью слепого пятна. Он его либо вовсе не замечает, либо не придает ему большого значения и не испытывает существенного дискомфорта, причем в обеих ролях – и субъекта, и объекта агрессии. Если отшлепать ребенка один раз (или один раз грозно пообещать это сделать), то это будет для него значимое событие, исключительное, выходящее за грань нормального. И ему будет очень страшно. Если такая ситуация будет повторяться регулярно, к ней выработается привыкание. Ребенок уже станет воспринимать ее буднично: «Ну вот, вчера опять отшлепали». Чем более буднично воспринимается насилие, тем меньше оно способно регулировать поведение. Для ребенка этот процесс нормализации является средством адаптации к среде – если бы он каждый раз так сильно пугался, как когда его побили впервые, он бы превратился в невротика. Дальше, исходя из своего опыта, ребенок считает, что в тумаках нет ничего страшного – с ним же ничего страшного не происходит, когда его бьют. Соответственно, ему будет психологически проще ударить другого человека – сначала сверстника, потом своего собственного ребенка.
Аналогичная история с вербальной агрессией и эмоциональным насилием. Соответственно, если в партии оказывается игрок, который ведет себя неприемлемым для окружающих образом, даже не замечая, что делает что-то не так, то про это нужно понимать две вещи. Во-первых, скорее всего, перевоспитать этого игрока уже не удастся. Как максимум, он усвоит, что другие игроки – тонко организованные неженки, и самостоятельно решит, что лучше играть с другими, нормальными людьми. Во-вторых, толератность к агрессии у этого игрока – это, скорее всего, средство адаптации, которое сначала позволило ему выжить в кругу семьи, а теперь, вероятно, позволяет выживать в такой же агрессивной социальной среде. Если он станет более чувствителен к агрессии, ему сразу же станет гораздо тяжелее жить в той среде, где он находится. Что может сделать мастер в этой ситуации? Только одну вещь: не включать этого игрока в ту команду, для которой он некомфортен.
Сегрегация
С проблемой сосуществования в рамках одной среды людей, у которых разный привычный уровень агрессии, мы будем сталкиваться в основном в тех средах, куда люди попадают помимо своей воли: то есть, например, в образовательных учреждениях. Но даже там можно наблюдать тенденцию к расслоению по этому признаку. Родитель, который верит в пользу жесткой руки, скорее будет выбирать для ребенка строгого учителя, а семья, где с детьми принято спокойно договариваться, в ужасе заберет ребенка из сада, один раз услышав, каким голосом на детей кричит воспитательница. Педагоги, в свою очередь, тоже будут подбираться в один коллектив более или менее однотипные, потому что резко отличающемуся педагогу будет некомфортно среди коллег, которые не разделяют его убеждений. В результате в одних средах будет скапливаться больше педагогов с демократичным стилем преподавания и детей, с которыми можно договориться, а в других средах будут скапливаться дети, которые еще дома привыкли, что их поведение регулируется криком (поэтому на спокойную речь они не реагируют), и педагоги, которые как раз криком и склонны общаться. Поэтому педагоги, работающие в разных садах и школах, могут иметь диаметрально противоположный опыт в отношении того, как ведут себя дети и какие методы с ними эффективны.
То, что домашнему ребенку из мягкой семьи будет крайне некомфортно с педагогами, которые общаются криком, довольно очевидно. У него не выработана привычка к крику, и для него гораздо более травматично, когда он сталкивается с такой системой отношений, чем для ребенка, который всю жизнь примерно так и живет. Менее очевидно другое: ребенок, привыкший к высокому уровню средовой агрессии, будет некомфортно себя чувствовать в мягкой среде, и он будет в ней хуже функционировать. Во-первых, если поведение ребенка регулируется преимущественно страхом, это значит, что у него есть внешние тормоза, но нет внутренних. Соответственно, в ситуации, где бояться нечего, его поведение автоматически дезорганизуется. Во-вторых, если он попадает в коллектив, где средний уровень агрессии существенно ниже, чем у него, то на общем фоне он сразу выглядит очень неприятным, гадким типом, с которым никто не захочет дружить.
Говоря о пользе образовательных учреждений как средства социализации, иногда высказывают тезис, что нахождение в агрессивной среде массовой школы (в противоположность тепличной домашней среде) некоторым образом адаптирует ребенка к реальной жизни. В этом есть определенное рациональное зерно, потому что опыт функционирования в коллективе сверстников действительно нельзя получить дома. Но тут нужно понимать, что нет никакой общей для всех «реальной жизни». Есть множество разных сред с разными условиями, и взрослый, в отличие от ребенка, имеет возможность выбора, в какой среде он будет жить и работать. Он может выбирать друзей, может выбирать коллектив, может выбирать район и даже страну обитания. Это с одной стороны. А с другой стороны, нахождение ребенка в образовательной среде с определенными свойствами адаптирует его только к средам с такими же свойствами, но не вообще к любому коллективу. Агрессивная школьная среда адаптирует к жизни в жестких средах, но не адаптирует к мягким. Школа гуманистической направленности адаптирует к таким же гуманистичным средам – но не адаптирует к агрессивным. Таким образом, когда ребенок посещает в школу, то она готовит его не просто к жизни, а к определенной жизни среди определенных людей. И при выборе школы этот момент важно учитывать. Коротко говоря, чтобы человек смог жить в гуманистическом обществе, ему нужно с рождения тренироваться жить в гуманистическом обществе и сначала иметь демократическую среду дома, потом в саду, а после этого – в школе. Тогда он вырастет тем человеком, которого гуманистическая среда не отторгнет, если он придет в нее со стороны.
Мама-анархия
До сих пор мы разбирались, как работает агрессия в ролевой игре, у которой есть активно включенный в нее модератор. А что происходит в многопользовательских компьютерных играх с похожей механикой, где модератор если и есть, то он не наблюдает постоянно за всем, что там происходит?
Во-первых, в действие вступает эффект анонимности. Ситуция анонимности убирает значительную часть внешнего тормоза. Когда другие игроки – это незнакомые тебе люди, которые, скорее всего, не узнают тебя, когда столкнутся с тобой в следующий раз, нет никаких причин беспокоиться о сохранении хороших отношений с ними. Ты можешь делать в игре все, что угодно, и это никак не повлияет на твою репутацию среди тех людей, которые знакомы с тобой лично, потому что они об этом не узнают.
С другой стороны, внутренний тормоз тоже работает значительно слабее, если мы от человека видим только его ник. Чем более абстрактна и условна информация о существе, тем меньшую степень сочувствия мы к нему испытываем. Одно дело, если нам новости сухо сообщают о полутора сотнях пострадавших при взрыве, а другое дело – когда нам показывают фотографии какого-нибудь конкретного пострадавшего с прочувствованным текстом о том, как взрыв сломал его жизнь. Очевидно, что конкретному человеку, которого мы можем себе представить, сочувствовать гораздо проще.
В сумме это дает нам гораздо большую готовность отдельно взятого пользователя к немотивированной агрессии в отношении другого пользователя. Дальше на эту готовность накладывается эффект распределения ответственности в толпе: все рубились, и я стал рубиться, а что такого? Если на сервер приходит много пользователей с потребностью в отыгрывании агрессии (а от школьной аудитории мы ожидаем, что таковых там большинство), то в течение короткого времени агрессивное поведение будет демонстрировать большая часть пользователей, и здесь даже наличие модератора уже не спасет, потому что два процента пользователей можно забанить, а девяносто процентов пользователей банить бессмысленно – проще закрыть проект.
Space Station 13, например, задумывалась как симулятор работы космической станции. Большая часть ее механики – это многопользовательская песочница с кооперативом на основе разделения ролей. На первый взгляд мы могли бы ожидать, что игрок, зайдя на сервер и выбрав себе профессию, будет пытаться отыгрывать представителя этой профессии. Он же зачем-то именно в космическую станцию пошел играть, а не в многопользовательскую стрелялку? На практике все оказывается куда менее гладко. Во-первых, как обнаруживает игрок, после того как его несколько раз внезапно убьют незнакомые люди, механика игры предполагает возможность в любой момент замочить товарища любым подвернувшимся под руку предметом. Во-вторых, убийство товарища предметом осуществить гораздо проще и быстрее, чем любую рабочую задачу. В-третьих, если большая часть станции пытается убить друг друга, попытки работать вообще бессмысленны, поскольку это кооператив, и любая профессия предполагает тесное сотрудничество с другими специалистами. Таким образом агрессивный игрок получает немедленное положительное подкрепление в виде чувства силы и безнаказанности, а игрок, который планировал использовать песочницу по прямому назначению, узнает, что кооператив – совершенно бестолковая вещь, и от кучи собравших вместе людей ничего хорошего ждать не надо.
Какие косяки мы тут видим? Во-первых, свобода действий в отсутствии сдерживающих факторов. Если мы даем игроку техническую возможность атаковать другого игрока, и у него нет причин этого не делать, то с большой вероятностью он это сделает – атакует другого игрока. На частном сервере, где играет конкретная компания игроков, эта проблема решается тем, что игроки в команде знакомы между собой, и они могут заранее договориться, что будут использовать песочницу как песочницу, а не как арену для гладиаторских боев. На публичном сервере, где ожидаемо крайне низкое качество коммуникации, эту проблему можно решить только тисками игромеханики: чисто технически исключив возможность нанести повреждение члену команды или вообще выпилив всю механику, касающуюся боевых действий.
Второй момент – это то, что асоциальное поведение здесь легко осуществимо и самоподкрепляемо, а просоциальное трудно осуществимо и не имеет дополнительных средств подкрепления, кроме морального удовлетворения, которое теоретически должен испытывать игрок от выполнения рабочих задач. Это автоматически подталкивает к агрессивному поведению тех игроков, которые не хотят много думать и долго разбираться в аппаратуре станции. К примеру, если бы в качестве оружия можно было использовать только лазерную пушку, которую надо полчаса собирать с участием еще четырех специалистов, то количество желающих ей воспользоваться немедленно упало бы на порядок.
А третий момент – это то, что атаковать живого человека здесь гораздо проще, чем специально предназначенного для этого бота. Ботов мало, прилетают они редко, ходить за ними далеко, а коллеги-космонавты – вот они, в соседнем кабинете. Сделав удобно расположенную арену с большим выбором оружия и системой выдачи призовых очков за победу над тварями, мы могли бы легко перенаправить туда агрессию тех, кто нуждается в ее отыгрывании.
И что из всего этого следует?
Из всего этого следует очень простая идея. Если у человека внутри уже есть чувство гнева, то оно будет стремиться вырваться наружу. А дальше либо мы управляем этим разрушительным импульсом, предоставляя приемлемые способы для его проявления, либо этот импульс управляет игроком и игрой, что способствует закреплению нежелательных моделей поведения и потенциально может приводить к психологическим травмам у других участников игры и негативно сказываться на их социализации.
Как обычно, ваши соображения на эту тему приветствуются. Если у вас есть интересный опыт, связанный с игровой агрессией, расскажите о нем, пожалуйста, в комментарии.
Автор: Елизавета Ключикова